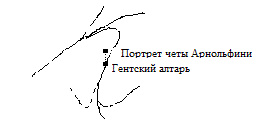
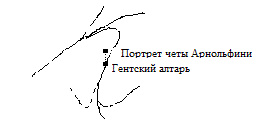
С. Воложин.
Ян ван Эйк. Портрет четы Арнольфини.
Художественный смысл.
|
Жизнь людей не менее страшна своей непостижимостью. Постигнуть можно только то, что видят глаза. |
Пофигизм XV века?
Мне трудно представить напрочь разочарованного человека. Я слаб, легче всего других понимаю по себе, а сам я никогда не был напрочь разочарованным. Поэтому я как-то умом, что ли, понимаю нынешних постмодернистов. И мне было дивно почти непосредственно убедиться, - я был знаком с одним поэтом-постмодернистом, - что он испытывает радость творчества. Какая радость, казалось бы, если нет ничего, чему стоило б быть твоим идеалом? – Нет. Счастлив… Правда, я не заставал его в миг творчества. Но он довольно раскованный и самодостаточный человек, и ему не было расчёта мне врать. Да и по его одной вещи в одном месте я это таки почувствовал раз очень остро. Аж на самого себя удивился – что мне это удалось постигнуть.
И говори после этого, что не бывает искусства для искусства.
И вот я теперь берусь объяснить таким же психологическим образом, ну например, радость Яна ван Эйка от изображения здорово некрасивых человеческих особей.

Портрет четы Арнольфини. 1434.
Через 2 года после после “Гентского алтаря” создан. А в 1432-м, вроде, вполне религиозным человеком был художник. Разве что в подсознании что-то свербило… Что сомнительно оно, христианство* (см. тут). Залил там природу таким солнечным светом, какого и не бывает во Фландрии. Противопоставил-де ценность ценности (жизнь после Апокалипсиса – земной жизни) и тем выразил недоверие своего подсознания христианству.
Ну и в самом деле… Что должен испытывать художник, излив вовне своё подсознательное? Он же его осозна`ет!
И как ему жить после этого без веры? – Найти утешение в искусстве для искусства. Идейно – в пофигизме. Ценность – суметь передать натуру точно. Только то, что видят глаза. И не более.
Это муж и жена, Арнольфини? – Пожалуйста. Это их дело. Меня, художника, это не касается. Чувства у европейцев не выражаются их лицами. Жестами – тоже. Они могут взяться за руки, но это ничего не значит.
[Или не зря Ян ван Эйк сделал, что “она” как-то невпопад подала руку мужу? Это ж “он” протянул ей руку (она ниже её руки). Значит, “она” в ответ протянула – как факт, её рука НА его руке. Но почему не ладонью в ладонь? Мадам что: сомнамбула? Делает одно, думает о другом, в результате то, что делает, получается невпопад… А почему “он” на неё не смотрит, протягивая руку? Вернее, смотрит, но боковым зрением. Как бы тоже будучи чем-то нездешним здорово отвлечён и лишь по инерции едва следит за приличиями: я протянул ей руку – она должна ответить тем же; так как: отвечает?
Житейская мудрость говорит, что влюблённых видно по тому, что они много смотрят друг на друга… Эти – не смотрят. (Да и смотреть каждому не на что: и он, и она некрасивые; какая тут влюблённость… Да и беременная она.) Или чужая душа – потёмки…]
И художник то и подчеркнул: не-из-вест-но, что у них за взаимоотношения. Вон, “он” правую руку приподнял. Что это значит? – “А кто может знать? Я же – лишь останавливаю случайное мгновение. Не больше. Случайное!”
Мистической связи всего со всем, предопределённости (как говорит христианство: брак совершается на небесах) – нету, как это ни страшно. Жизнь людей не менее страшна своей непостижимостью. Постигнуть можно только то, что видят глаза. Причём для меня постижимо только то, что видят мои глаза. И не боль-ше! И радости мне остаётся только столько, сколько я рукой могу передать то, что видят глаза. Строго говоря, я не могу утверждать даже то, что плащ “его” и платье “её” со спины такого же, скажем, цвета, как спереди, если не увижу в чём-то их отражение.

Фрагмент.
Что это всё не дурная моя фантазия, может “подтвердить” Макс Дворжак:
“…человеческий дух, придавая наблюдению самостоятельное значение, стал видеть в нем источник художественной правды, предпосылку для поднятия над повседневностью” (История искусства как история духа. С-Пб., 2001. С. 160). Уход из повседневности красиво называется поднятием над. Но всё равно Дворжак “подтверждает”.
“…впервые изучение натуры в нашем смысле слова, то есть кусок реальности так, как он представлялся наблюдателю в его индивидуальном обличье, совпадает в основном с замыслом картины. Другими словами, это сводилось к сознательному отказу от всего того, что лежало за пределами непосредственного чувственного восприятия” (С. 164).
“…с возможно большим устранением всех моментов, которые с точки зрения новой художественной правды не могут быть изображены” (С. 166).
“…проявляющейся не в действии, а в спокойном существовании” (С. 170).
“…радость, вызываемая богатством наблюдения, которое представляется художнику даже там, где изобразительный материал требует ограниченного окружения” (С. 170). Бедность наблюдения красиво называется богатством. Но, повторяю, по сути, Дворжак “подтверждает”.
“…переносит зрителя в мир, где умолкают страсти” (С. 171).
Освещение “…становится теперь источником созерцания природы... первым шагом… перерождения всех явлений в феномены освещения” (С. 172), как это стало в итоге в импрессионизме, тоже испугавшемся действительности и убежавшем, как мог, от неё в радость от малого.
“…сила субъективного созерцания… все предметы предстают перед зрителем в их чувственно своеобразной ценности, материальном обличии и сопоставлении, предстают в качестве живописно-однородно воспринятой и верно воспроизведенной действительности” (С. 172).
“…в духе натуралистического позитивизма нового времени” (С. 173). А позитивизм же не углубляется в причины.
Я рвал Дворжака на кусочки и так преподносил, чтоб он меня “подтверждал”. Потому что он-то обосновывает рождение нового искусства. Подъём. Новые ценности (автономные, чисто художественные – искусство для искусства, – понимаемые позитивно). А я усмотрел тут срыв. Утрату вне искусства обретающихся идеалов. Которые искусство испытывает, когда художник не разочарован. Когда же разочарован, то сама эстетическая радость его – от внеэстетического горя.
Вот так, совершенно по-авантюрному, поступил я с великим художником и с великим искусствоведом.
Первое возражение я получил от своего, так сказать, рецензента.
Это, мол, никакое не бегство от действительности и от религии, а вполне сочувственное погружение в бытовую сцену. Женщина прислушивается, как в ней шевельнулся ребёнок и призывает это послушать его отца, а тот останавливает её поднятой рукой, намереваясь аж на расстоянии услышать.
Я ахнул и впервые полез смотреть, что пишут об именно этой картине.
Боже! Там полно, мол, намёков, призванных как раз обеспечить бого- и умопостижение (в самом деле непосильные постижению глазами без ума и веры).
Но.
Что-то ералаш получается.
Есть вариант, что женщина не беременна, а просто платье высоко под грудью перетянуто по тогдашней моде, плюс она его приподняла. Плюс есть масса намёков, что перед нами брачная церемония, а значит, не могла быть женщина уже беременной. Во-первых, соединение рук, как для клятвы, во-вторых, поднятие руки мужчиной (для клятвы), в-третьих, он босой (туфли его сброшены и лежат рядом), она тоже босая (её туфли на заднем плане стоят), обувь – деревянная, что намекает на Ветхий Завет: “Когда жених и невеста совершали обряд бракосочетания, для них и простой пол комнаты был “святой землёй”” (Википедия). И ещё масса тончайших намёков. “В XV веке ещё не нужно было присутствие священника и свидетелей, чтобы сочетаться законным браком. Это можно было сделать в любом месте, например, как здесь — в спальне. Обычно на следующий день супруги вместе шли в церковь, что являлось доказательством того, что они стали мужем и женой. Свидетели, которых мы видим в зеркале, нужны были, что было обычным явлением для хорошо обеспеченных людей, для заверения письменного брачного контракта”.
Тут, с обеспеченностью, тоже чехарда.
Платье женщины оторочено мехом горностая и оно с длинным шлейфом, который при ходьбе должен кто-то носить. “Передвигаться в таком платье можно было лишь при соответствующем навыке, который был возможен только в аристократических кругах”. Так она – аристократка? – Нет! Вряд ли аристократки так поднимали платье, чтоб шагнуть к мужу, раз он протянул руку. “…очевидно, что речь идёт о “браке левой руки”. Жених держит левой рукой руку своей невесты, а не правой, как того требует обычай. Такие браки заключались между неравными по социальному положению в обществе супругами и практиковались вплоть до середины XIX века. Обычно это была женщина, происходившая из низшего сословия. Она должна была отказаться от всех прав на наследство для себя и своих будущих детей, а взамен получала определённую сумму после смерти мужа”. – Хорошо, может, он её приодел для такого случая. Но. “То, что этот человек не принадлежит к аристократии, видно по его деревянным башмакам. Господа, чтобы не испачкаться в уличной грязи, ездили верхом или в носилках”. – Хорошо, может, купцов не носили на носилках, и они не ездили верхом, а этот – купец и богат. И надо, - чтоб сходилось видимое с умопостигаемым, - чтоб по нарядам это был мещанин во дворянстве. Только вот носил ли кто-то купеческим жёнам шлейф? – Вряд ли. И потом: как же он так оплошал с зеркалом? “Плоские зеркала были по карману только высшей аристократии и считались драгоценностью. Выпуклые зеркала были более доступны”. Пришлось этому купчине тут не тягаться с аристократами. В общем, каша.
А со свидетелями? Их двое, судя по отражению в выпуклом зеркале. Но при чём тогда днём горящая свеча в люстре? – “Пламя горящей свечи означало всевидящего Христа — свидетеля брачного союза. По этой причине присутствие свидетелей было необязательно”. – Так зачем тогда они есть? – Ну хорошо, не обязательно – не значите же не должно быть…
А красные плоды на дереве за окном при тепло одетых людях в комнате…
Факт, что ни бого-, ни умопостижение что-то ненадёжно.
И тогда что остаётся?
Отказ от того и другого постижения.
Остаётся ещё решить для себя, что б я сказал, если б меня спросили, куда помещать это произведение: в музей искусства или в музей околоискусства.
Я ж (из-за скандального polit-art) предлагаю всё, что не выражает подсознательное, - только выражение подсознательного состоит из ценностно противоречивых частностей, - я предлагаю помещать в музеи околоискусства. В том числе предлагаю туда помещать и произведения прикладного искусства (выражающие вполне осознаваемые частности). Портреты, например, которые имеют единственную функцию – похожестью на оригинал напоминать этих субъектов людям, знавшим портретируемых лично.
То есть, если художник какой-то портрет наделил ещё и художественным смыслом (выразил им свой подсознательный идеал), тогда – в музей искусства его, а не в музей околоискусства. Людям же не важна похожесть изображения на оригинал, а важно подвергнуть своё сокровенное испытанию тем идеалом, который художник сумел в произведение вложить. Причём важно ж им не любое испытание (polit-art их сокровенное тоже может испытать, например, оскорбляя). Но polit-art воздействует на сознаваемое (на ум или на чувства). А человеку необходимо испытывать себя всего – вместе с подсознанием, причём непосредственно и непринуждённо. Тогда как polit-art принципиально срывается то в непринуждённую опосредованность (нежданное или ожидаемое поучение чужих или похвала своим при посещении ими учреждения культуры), то в принуждающую непосредственность, как сама жизнь (помимо вашего согласия при посещении того же учреждения).
Итак, во-первых, предстоит определить, чем является рассматриваемое произведение: жанровой сценой или портретом.
При том ералаше насчёт беременности или бракосочетания, ясно, что это не жанровая сцена. Но это и не только портрет, если ван Эйк осознанно так намутил с сюжетом, то есть настаивает на бессюжетности. Тогда мне остаётся решить для себя: он бы согласился с “моим” Дворжаком (если представить себе такой разговор), что за осознаваемым им акцентом на “чувственно своеобразной ценности” изображённого стоит нечто, им, художником, до этого разговора не осознававшееся – разочарование во всём, кроме “чувственно своеобразной ценности” изображённого?
Если мне себе ответить за Яна ван Эйка: “Да”… Тогда этот портрет нельзя отправлять в музей околоискусства. Ибо он говорит больше, чем там изображено. И говорит о том, о чём художник не осознавал, пока этот портрет писал.
И тогда, в этом случае, опять не состоялось явление искусства для искусства. Ибо перед нами выражение пофигизма. А пофигизм – вещь внеэстетическая сама по себе. Другое дело, если его, пофигизм, переживаешь, пока смотришь на портрет, - переживаешь в качестве катарсиса от столкновения чувств, что не дано глазу знать: 1) по Божьей ли воле всё деется или 2) по человеческому соизволению. Пока ты в таком катарсисе-пофигизме (надо отдать глазу глазово, пусть не претендует на большее) – ты в эстетическом. Перестал переживать (скажем, осмысляешь) – ты вне эстетического, ты – в последействии искусства.
4 января 2013 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/132.html#132
*
- Это прямо противоположно словам Макса Дворжака: “Для средневекового художника решающим было величие мысли о надземном мире и о всем, что могло бы быть с ним связано <…> величие невнимания к чувственному и рациональному опыту <…> таким образом, для средневекового художника решающим было прежде всего внутреннее единство и замкнутость покоящегося на абсолютных духовных ценностях мировоззрения. Оно сохранялось в силе и тогда, когда новый натурализм находился уже в полном цвету. Разве оно потеряло что-либо в гентском алтаре Ван Эйков <…> в портрете Арнольфини, несмотря на светский характер последнего? Христианский художник никогда не мог раньше изобразить с подобной верностью природе одежду, сосуд, яблоко на подоконнике, луч солнца. Однако все ли это? Не стоял ли в конечном счете в произведениях “архаического” стиля над действительностью все еще некий высший закон, та ценность вещи, что коренится в благоговении перед сверхчувственными силами?” (С. 241-242).- Ничего себе “величие невнимания к чувственному и рациональному опыту”, когда как раз наоборот. – Просто Дворжак чувствует, что есть выражение подсознательного (в первом случае – сомнение в христианстве, во втором – сомнение, что вообще есть чему быть идеалом). Чувствует, а расшифровать адекватно не может. Вот и сказал – в духе непрерывности духа: было величие раньше, есть величие и сейчас, у Эйка.
9.03.2014 г.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |