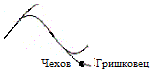
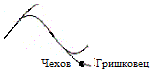
С. Воложин
Гришковец. Как я съел собаку
Художественный смысл
|
А перед вами выступает один человек! Один… Един во всех лицах… Сам стиль говорит о том, что идеал автора – индивидуалистского типа. |
|
В день рождения Высоцкого памяти его посвящается. Ибо он был враг индивидуализма. |
Гришковец
“Конфликты “чеховского” типа оказались принципиально важны в драме XX столетия” (
http://gitis.net/rus/postgraduate/notices/verbitskaya_auto.shtml). Оно и понятно: Чехов в народничестве разочаровался, вообще во всём, что тогда и позже считалось прогрессом. А лжесоциализм в СССР – такая же и даже большая разочаровывающая причина спустя полвека после Чехова, как и реставрация капитализма ещё через полвека спустя.Так я думал приспособить диссертацию о Гришковце, в частности, к вниканию в, надеюсь, художественный смысл его представления “Как я съел собаку” (1998).
Почему “надеюсь”? Потому что приучил себя не доверять собственным переживаниям от искусства. Я взыскателен, ценностно отделяю зёрна от плевел: произведения идеологического искусства от произведений прикладного. А и те, и те способны заставить очень переживать. Даже очень-очень. Иногда даже произведения околоискусства – из-за злободневности – способны очень подействовать. Так что надо быть осторожным в оценке. Мало, что крупно премирован этот моноспектакль. Часто можно наткнуться на зряшное – по-моему – премирование.
Итак, я думал было приспособить первую же попавшуюся сентенцию из диссертации к Гришковцу. (А я часто придерживаюсь принципа потока сознания в своих синтезирующих анализах.) И – как-то незаметно для себя – решил, что я неправильно приспосабливаю.
Почему я так решил?
Можно попробовать понять (хоть поезд ушёл; раз не заметил, как изменилась ориентация – не вернёшь это мгновение).
Но причины…
Во-первых, “Школа злословия”… Там очень правые, извиняюсь за выражение, дамы Гришковца очень привечали. А сделали б они это, будь он им идеологически чужд? – Сомневаюсь. Я же Гришковца стал поворачивать против реставрации капитализма.
Во-вторых, вышла статья Путина о национальном вопросе. “Государство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне”.
Привыкание… Герой Гришковца, служа на флоте вместе с корейцем Колей И, раз, на какой-то корейский праздник, ублажил товарища и ел приготовленную им собаку. Было очень вкусно. Хоть душа болела, представляя ту девочку, ту бабушку, чьего любимого Шарика украл Коля в увольнении, на берегу.
Это был советский флот. Там служили очень, по мнению героя, несимпатичные два эстонца, на перекличке отвечавшие не “я”, а как-то… Хотел написать: непередаваемо. Но Гришковец-то, устно, передал… Что-то среднее между “й” и “о”. Это был советский флот, но, наверно, времени службы на нём самого Гришковца (он уволился в 1988 году). Эстония вовсю рвалась тогда вон из СССР. И это было достаточно неприятно для не правых. (Тогда, правда, правые назывались левыми – за, мол, революционность.) Так начальство тех двух эстонцев не по алфавиту в списке ставило, после всех: “Яковлев, Якушев, а дальше Каск и Эллер”. Реакционное начальство, понимай. Не революционное.
А сам-то Гришковец, не его герой, назвал-то спектакль как? – “Как я съел собаку”. Нашёл же – изо всего неприятного, что было в советском времени (и отражено в моноспектакле) – как именно назвать это произведение.
Как тут не вспомнить крайних правых, типа Новодворской (очаровательно принятой в “Школе злословия”), желающих распада страны (на 50 по сахаровскому проекту конституции для СССР, а для России на не знаю сколько частей), но обязательно распада.
Да. Итак – название… Акцент в этом названии… Под влиянием статьи Путина…
Пожалуй, хватит искать причины перемены моей ориентации относительно первоначальной задумки показать Гришковца разочаровавшимся в реставрации капитализма.
Я ведь почему так задумал было? Из-за второй части фабулы, где герой стал мужчиной. Флот сделал-таки из него коллективиста, наконец. Герой плачет, уходя, буквально уходя в отставку. Идя по пирсу, последний раз видя эти громады военных кораблей.
Я подумал было, что эти слёзы героя – плач в 1998 году (а это год дефолта и особого разочарования, даже богатых, если не в реставрации капитализма, то уж, во всяком случае, в деятельности так называемых демократов, так всё сумевших развалить и не способных отстроить). Я думал, что это плач Гришковца по СССР. Но.
Нет. Надо опять вернуться к причинам перемены моей ориентации.
Почему герой, три года непрерывно мечтавший: “И вот так вот все три года, все три года, в голове была одна и та же мысль всё время: “Я хочу домой, так. Я хочу…” Даже без “я”: “Хочудомой, хочудомой”. Как поезд”. – Почему этот герой, вернувшись домой, почувствовал, что дома-то – нет. Дом-то до этого он вспоминал не так, как в начале спектакля, как нудный кошмар режима дня, сориентированного вокруг школы. Дом в середине спектакля вспоминается-то как дом раннего детства, дошкольного, безответственного. И вот этого-то дома демобилизованный не застал. Вспоминался дом дитяти природы, наивного индивидуалиста. А вернулся – патриот родины. Ну что ему этот дом дитяти?
Это середина фильма (как потом оказалось). А кончается фильм потенциальным героизмом русского моряка (отчего и подумалось про горечь по рухнувшей мировой державе). Но вспомнилось-то про отсутствие дома для такого героя, для которого не держава рухнула, а для которого дошкольное детство невозвратимо. Для которого, взрослого человека, нельзя существовать дитём природы.
Гришковец же, тот, что до начала действия, снял обувь, на всё время представления так до конца босым и пробыл. Этаким руссоистом. – Зачем так?
Нет, он перед началом, правда, ещё и куртку тёмную снял. Играл в светлом. Во-первых, отличие, мол, героя от автора. Во-вторых, роба – символ дисциплины. И тоже пробыл в этой робе до самого конца.
Раздвоение, мол: дитя природы и дитя общества.
Но роба как-то обычностью всё же выглядела. Не то, что босоногость. Детский наивный эгоизм. Нет. Почему детский? Теперь эгоизм на коне в России. Не его ли выпятил всё же автор? – задумался я. – И передумал, про сожаление о рухнувшей сверхдержаве.
Вопреки концу:
“Но [в пику только что описанной нуднейшей обыденности потекшей цивильной жизни] на памятнике написано: “Русские моряки не спрашивали, каков числом враг, а где он”. Эээй. [Закрыв глаза и запрокинув голову, перекликается бывший матрос с историей.] “Эээй” там не было написано. Это был мой голос. Да мы бы тоже пооткрывали б кингстоны, нам просто не повезло – мы вернулись. [И красный цвет уж некоторое время, как льётся сверху на сцену. А в музыкальном сопровождении – звучит задумчивая и отрешённая музыка с голосом, словно церковная…] А жизнь пошла по-другому. [И досадливо отвернулся от зрителей.] Ну я ж не хочу сказать, что она пошла хуже. [Примирительно скидывая канат со стула и поворачивая его к себе, чтоб сесть.] Иначе бы получилось, что я, во-первых, буду говорить о причинах. И вообще, что я чего-то жал… А я ж не жаловался, правильно? И про причины – ну ничего не говорил. [Стул приготовил, но забывает на него сесть.] Она и должна была пойти по-другому. [Широким жестом иллюстрируя, убеждая себя и слушателей, как естественно это было.] Я ж не хочу ж… что хуже. Да? [И весь аж наклонился вперёд, к залу, мол, зря б его убеждал в плохости.] Или там спрсшь: “Как жи…” - “Нормально”. Что знчт нормально?! [Вдруг взъярившись.] Эт, получается, что я здесь – прибеднялся, бльть, что ли?! [И вдруг же отходя, махнув рукой с горечью.] Я не прибед… [Досадливо.] Ну и… [Начиная рубать рукой, втолковывая пословно.] Просто на памятнике написано: “Русские моряки не спрашивали, каков числом враг, но где он”. Ээ… [Сморщился, сбившись. А потом, придя в себя, самоутверждаясь.] Это был мой голос. [Повернулся, засуетился, озадачиваясь валяющимся на полу сцены толстенным канатом.] А если посмотреть на всю эту, ну, вот это… [Наклоняется и начинает собирать канат.] ну чё я тут рассказывал, с другой стороны, то… [Взвалив на плечо тяжеленный пук канатов.] А другой стороны-то и нету. [Распрямившись и глядя в зал с покачивание головы, мол, нету. Потом молча поднял ведро, двинулся было уходить, приостановился ещё что-то добавить, но махнул сам себе рукой, мол, будет. Повернулся в другую, более удобную – среди валяющихся канатов – сторону, и ушёл. Уволакивая за собой все оставшиеся было канаты. И сцена остаётся пустой. Зал аплодирует.]”.
Запутался парень. Хоть все путы сумел уволочь.
Но не Гришковец-автор же запутался.
Теперь можно вернуться к диссертации и выписать другие словоблоки, пригодные для объяснения моноспектакля Гришковца:
“А. П. Чехов и Е. В. Гришковец: от бесприютного скитания – к экзистенциальному путешествию”.
“…стихия быта, которая, как и у А.П. Чехова, постоянно демонстрирует другую сторону: от быта – к бытию”.
А ещё интересно крайне непригодное:
“…переживание катарсиса в драме, вызванное идентификацией зрителя (читателя) и героя-автора-повествователя”.
Дело в том, что, по Выготскому, катарсис возникает не от идентификации чего-то с чем-то, а, наоборот, от противочувствий, которые сами есть результат противоречивых элементов произведения. И первейшая неидентичность – это отличие героя от автора.
В моноспектакле это подчеркнуть особенно важно, что до начала представления Гришковец и делает:
“У этого спектакля нет программки. Потому что, когда она была сделана, я посмотрел, м-м, я понял, что я не хочу, чтобы её давали публике, потому что там было… Ну в программке, театральной программке есть обязательные моменты, элементы. То есть должен быть указан автор, режиссёр, исполнители, э-э-э, художник спектакля. И это был список, и, м-м, одна и та же фамилия и имя. То есть текст был неприличный, нескромный. Я не хотел, чтобы его читала публика перед спектаклем. И там же было указано: сценограф. Да? [Оглядка на горку канатов за спиной, стул и ведро. Что вызвало смех в зале.] Вот. А потом также нет художника по костюмам. Я играю в настоящей матросской робе просто старого образца. Я в ней служил. Она была такая же, только тёмно-синяя. Э-э. Бескозырка… Ну такая настоящая бескозырка. Ленточка… Единственное, что осталось от того, в чём, чём… Ленточка здесь [Показывает.] тихоокеанская. Я оста… с этой ленточкой служил где-то около года. [Положил бескозырку обратно на стул.] То есть этот спектакль это часть моей биографии. Я действительно когда-то родился в сибирском городе. Э-э-э. Учился в школе. В университете. Служил на флоте. Э. Но. Я сейчас отойду туда [Указывает за кулису.] буквально на минуту. Чтобы снять эту рубашку [Показывает на себе.], часы, очки и ботинки. И я вернусь сюда, и это уже буду не я, а персонаж этого спектакля. И для меня, сколько бы я ни играл этот спектакль, остаётся большим… остаётся такой большой вопрос внутри спектакля, где я там, а где персонаж этого спектакля. Э-э-э. Потому что этот персонаж будет рассказывать часть моей биографии. И ещё фактически-то [Оттягивает свои щёки] это буду я. Там [Указывает за ту же кулису.] никого не останется. Это буду фактически я. [Опять дотрагивается обоими руками до своих щёк.] Э. За то время, пока я играю этот спектакль… э-э… персонаж не изменился. А я изменился. И… э… точно могу сказать, что персонаж лучше, чем я. Это я хотел успеха, денег и, и… аплодисментов и так далее. А он нет. Он просто… этот персонаж просто хочет как-то нормально жить, хорошо. Он не знает, как это делается, но тем не менее. И поэтому, вот пока будет идти спектакль, меня здесь не будет, а будет персонаж. Я вернусь по окончании спектакля кланяться. Это уже буду я. Но во время спектакля меня здесь не будет. Будет персонаж. Я вернусь кланяться, как я уже сказал. А сейчас в данный момент я с вами прощаюсь. Всего доброго. Приятных впечатлений от спектакля. Можно похлопать здесь. Нормально”.
Можно лишь оспорить неизменение персонажа. Он меняется. Даже переодевается, став из гражданского военным. Это замаскировано. Он переодевается, - сняв робу со спинки стула и натянув на себя, - чтоб, мол, показать нам матросов, сопровождавших их, новобранцев, с призывного пункта до Владивостока. Да так в робе и остался. И демобилизовавшись. На нём было нечто с легкомысленным изображением велосипеда на груди – это он был до армии. А потом натянул робу.
И можно уточнить насчёт “для меня <…> большой вопрос внутри спектакля, где я там, а где персонаж”. – Это кокетство. Он прекрасно знает, где в речь простого мальчика или матроса, вторгается экзистенциалист, что процитирован из диссертации. Ни мальчик, ни матрос такого слова знать не могли. А переживать, да, могли. Но не так пронзительно высказывать. Чехов себе, по крайней мере, так не позволял:
“Г а е в. Я молчу, молчу.
Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.
Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Это что?
Л о п а х и н. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко”.
Это метафизическое. Вечность, в которой нет смерти. И времени.
Чем дальше, тем Чехов резче эту вожделённую метафизику вводил. “Вишнёвый сад” его последняя пьеса.
А вот более раннее, “Степь”:
“В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...”.
А вот – Гришковец:
“Вот что у меня было в жизни такого страшного, чтоб я уже был запуган и боялся? Откуда страх-то взялся, откуда? Вот чё я мог бояться, что у меня в жизни было такого страшного, чтоб вот что-то было страшное… А… И я понимал, что я туда доеду и там будет то же самое, но только страшнее… Во. Да ничего страшнее, чем вот… вот так, когда открываешь так вот… [Став левым боком к зрителям, выставил перед собой согнутую в локте левую руку – дверь, мол, на петлях сама медленно-медленно открывается в пространство.] Дверь вот так открываешь… [И сам-ось повернулся к зрителям] А там [Пальцем указывает вдаль зрительного зала.] темно [Пальцы полусвёл и потыкал, мол, дома, дома…], зима и впереди школа. И пошёл. [Пригнулся чуть вперёд и вытолкнул указующую ладонь-прицел.] Вот. Вот ничего страшнее этого не было. И, главное, идёшь в школу [Понурился.], и очень холодно. [Покачал головой: посочувствуйте, мол.] Очень. [Повернулся направо и стал показывать, как понурившись идёт малыш.] И идёшь всегда как-то вот так. Вот так”.
В конце цитаты уже не метафизика, а непереносимейшие будни. Как у Чехова то, от чего он бежал в метафизику. От серости жизни. Неизбывной серости жизни малюсеньких людишек, проживающих жизнь – с некоторой точки зрения – зря.
За секунды перед цитируемым эпизодом, новобранец показывал матросов, думающих, - несчастные! – что они-то живут не зря:
“Морячки были забавные. Они на каждой станции выходили на перрон, у них был старенький кассетный магнитофон [Показывает руками малость его размера. То есть знает, насколько большего размера новенький и, наверно, насколько на нём звучание лучше, чем на стареньком, о чём матросы понятия не имеют], они включали самую, по их мнению, модную на этот момент музыку [Руки опустил, замер телом и взглядом улетел вдаль, видя там, не исключено, - не новобранцем, а автором, - нечто несоизмеримое с музыкой матросов, музыку сфер, так сказать], ходили вот так [Бескозырку заломив на макушку, а руку, согнутую в локте (держит, мол, магнитофон) отставил в сторону], и смотрели [В другую сторону. Гордо.], смотрят на них или нет [Повернулся всем корпусом обратно и свободную руку сунул в карман. Независимость, мол.]. – Смотрят. [Отвернулся и мысленно обратился, как бы от матросского имени, к себе, дорогому, перед которым можно не красоваться, и потому сморщился от удовольствия.] – Значит, всё не зря!”
Вы понимаете по ремаркам, насколько захватывающее это зрелище. 128 минут проходят на одном дыхании. А перед вами выступает один человек!
Один… Един во всех лицах…
Сам стиль говорит о том, что идеал автора – индивидуалистского типа. Что тоже заставило меня давеча отказаться от первого абзаца этой статьи.
И тут я хочу покаяться перед своими читателями. Вы ж знаете, что я всегда настаивал, что признак художественности – единственный: сложноустроенность по Выготскому. То есть столкновение противочувствий, рождающее нецитируемый катарсис.
Так вот я теперь признаю, что это необходимо, но не достаточно. Художнику надо дать намёк на то, какого результата ждать от столкновения противочувствий. Этот намёк, может быть как нецитируемым (ну вот – форма моноспектакля: индивидуализм выражает собою), так и почти цитируемым. “Невидимый дух” - в “Степи”. “С неба, звук” - в “Вишнёвом саде”. “Темно впереди” - у Гришковца в этом моноспектакле. – Экзистенциализм, одним словом. Многими – идеал Вечности, без времени, без пространства… Демонизм. Ницшеанство. Идеал сверхчеловека, врага мещанства и масс. Идеал новой аристократии. Аристократии духа.
|
Я неизменен и велик. Тебя я, вольный сын эфира, Возьму в надзвездные края; И будешь ты царицей мира… |
А что ж здесь, у Гришковца, сталкивается-то?
Дитя природы и дитя общества. То, что было до школы, с тем, что началось со школой.
И потому права опять диссертант: “…усиливающийся в переходные эпохи, принцип монтажности в поэтике А. П. Чехова и отечественной драматургии 70 - 90-х гг. ХХ века”.
Монтажность всё время у Гришковца тасует эпизоды то об одном дитяти, то о другом, то вставляет моменты экзистенциалистского автора, чтоб мы правильно ориентировались среди тасовки.
А эти “переходные эпохи”, получается, диссертантом тоже правильно указываются, и самая первая цитата, первая фраза статьи всё же верна. При Чехове дело шло, хоть и с поражениями, - к революции, и он бунтовал. При Петрушевской (с неё начинала диссертант) – свирепствовал тоталитаризм в СССР, и она бунтовала. Гришковцу достался 1998-го года дефолт и особое недовольство реставрацией капитализма и свободы, пошло к авторитаризму и социальному государству. И Гришковец почувствовал себя призванным восстать против всего, что социо: социализация ребёнка или социализм, так называемый, в СССР.
25 января 2012 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/92.html
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |