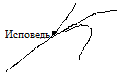
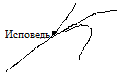
С. Воложин
Горький. Исповедь
Художественный смысл
|
Тащить себя к коллективизму, но остаться всё же не от мира сего. Революционеры его чуть-чуть не устраивали своей приземлённостью (при всей новизне их предназначения). Своей политэкономией в ущерб душе. |
Зачем Горький завёл усы и как от них “отталкивался”.
Недавно я пережил потрясение. Под натиском так называемых оранжевых СМИ России я, неожиданно для себя, на целых двое суток почувствовал себя оранжевым и аж заболел: я не привык себя чувствовать не ориентирующимся. Ох, эти времена перемен…
Разрешите начать с самоцитаты.
“Пока, при первых технологических укладах, капитализм был для масс ужасен, шли одна за другой революции. И всё – с поражениями. Весь XIX век. Параллельно шло облагораживание капитализма. Появилось массовое производство. Оно потребовало массового потребления. Средний класс становился всё богаче и влиятельнее. И оба процесса, - через досаду р-р-революционеров и через удовлетворение мещан, - требовали индивидуализма и из ряда вон выходящих средств его выражения (отталкиваясь от коллективизма и от общепринятого). И таким, из ряда вон, стало впадание в нехудожественность, в более простое устройство своих произведений: в заражение своим чувством, в прямое внушение чувства и даже просто в неискусство – в публицистику (для р-р-революционеров). Всё это проще, чем противоречиями вызывать противочувствия, от столкновения которых происходит возвышение чувств. – Так что: нехудожественность итог? - Да, по-моему, во всяком случае, прямое выражение стало заметной частью структуры целого. Хоть такие нехудожественные средства и очень действенны <…> Есть художественные направления, в само название своё взявшие соответствующие слова: экспрессионизм (экспрессия - выразительность проявления чувств)”.
А начиналось всё, - в России, по крайней мере, - очень незаметно.
Рядом “С принципиальной невыраженностью “прочной” идеи в художественной системе Чехова” (http://www.pandia.ru/144141/) у Чехова же замечено противоположное: “Мир духа в чеховской прозе в каждый момент изображенной жизни не отделён от своей материальной оболочки, слит с нею. В самые сложные и острые моменты жизни духа внимание повествователя равно распределено между внутренним и внешним. Внутреннее не может быть отвлечено от внешне-предметного, причем от вещей в их непредвиденном разнообразии и сиюминутном состоянии” (http://lib.rus.ec/b/112027/read).
Из-за того, что процитировано вначале, при жизни Чехова критики никак не могли понять идеал Чехова. А второе процитированное приоткрывает, что Чехов не гнушался почти “в лоб” выражать этот свой идеал. В “непредвиденном сиюминутном” (например, в поправлении Треплевым галстука дяди, до которого Треплеву в эту секунду нет никакого дела, ибо он слишком взволнован: и предстоящим первым показом людям того, что он сочинил, и отсутствием Заречной, которой поручено сочинённое представить, и т.д.), - в этом “непредвиденном сиюминутном” проглядывает, насколько Чехову не интересно, собственно, то, что есть им же придуманный сюжет, а именно, низменная жизнь, и, наоборот, насколько ему интересен метафизический мир, где нет причин, следствий, времени и смерти, которая в обычной жизни дышит, вот, ему в затылок – так она близка к чахоточному автору (он умер через 8 лет).
Первое, “невыраженность идеи”, есть свидетельство высшей меры художественности. Как же такой художник допускал всё-таки почти прямое её выражение? – Наверно, из-за необычности идеи для публики. Нужна была хоть какая-то подсказка публике. Пусть и незаметная (иначе художественность бы резко снизилась). Читателя (зрителя) должно озарять, а не просто понять идею автора он должен.
Необычность идеи (она ницшеанская) состояла не только в её негуманности, большинству антипатичной, но и в её радикальности. Обычным людям не свойственны залёты в вечность и апричинность.
А за свою радикальность ницшеанство соблазняло революционеров. Горький, как известно, из-за Ницше аж усы отпустил. Но всё же, в отличие от индивидуалиста Ницше, его, коллективиста, тянуло в аристократизм для всех, а не для избранных. Это, однако, такая же для широкой публики необычность, как и ницшеанство. И вот выражение идеи “в лоб” постигло и Горького в “Исповеди” (1908).
Так подумал я, наткнувшись на мысли Луначарского об этой “Исповеди”. И решил проверить свою выше процитированную мысль впечатлением от самой повести.
И что же я увидел? – Жаркое живописание метаний живой души в живой жизни.
Мы, большинство, как бы на другой планете живём: не такой, на какой живут люди, живущие жизнью души. (Хотел написать: “живущие духовной жизнью” и осёкся. Вот я живу духовной жизнью. Каждые несколько дней у меня рождается – по вдохновению, не как-нибудь – статья о каком-нибудь новом для меня произведении искусства. Чтоб разнообразить, я ищу материал по всей истории. И это превратилось в рутину. Я проверяю выработавшуюся у меня систему критериев. Они подтверждаются. Редко, когда мне их приходится поправлять, подстраиваясь под неожиданное. Но всё реже и реже. И можно с большой вероятностью заранее угадать, что новое для меня попадёт в старую координатную сетку. И – скучно. А я, как наркоман, продолжаю искать “новое”. Это мещанство какое-то, приземлённость.) А люди с живою душой по небу летают. От идеала к идеалу. Не меньше. (Вот Пушкин где-то больше десяти раз идеал менял… И не по легкомыслию, а, наоборот, по глубине души своей, отзывчивой на движение времени.)
Вот и главный герой повести Горького так.
Свободомыслящим дьячком был приучен подкидыш Матвей к храму. Махинация попа с чудом как-то его не тронула. Но в школе дразнили, и пришлось драться. После смерти дьячка взял его приёмышем приказчик. Но стал после школы помогать церковному сторожу. Полюбил Бога. Сторож кощунствовал. Но этим только мешал. Молился за приёмного отца и его дочку. Дети подросли – полюбили друг друга. Приказчик воспользовался и соблазнил его обворовывать крестьян ради того, чтоб откупиться от солдатчины. Поженились. Мучался грехом воровства на бумаге и стал птицеловом. Жена и дети умерли. Усомнился в справедливости Бога. И пошёл в монастырь. Попал под начало изувера. Пожаловался игумену. Тот наказал… Матвея же. Другие безобразия видит, как ни замучен работой. Лжи много в монастыре. Противно. Но. Чудеса, говорят, творятся. Выговаривал душу перед другим сомневающимся. Потом появился третий, и вовсе неверующий. Повидавший мир.
А язык… Какой-то вкусный.
“Прибауток у него, как у Савёлки, полон рот был, сыпал он ими, как яблоня цветами. Как только поставишь ему серьёзный вопрос, он сейчас же набросает на него слов своих, как трав на гроб младенца”.
Ушли эти двое из монастыря. Матвей остался. Говорить со схимником в его яме. Если это называется разговором. От жалости к погребшему себя заживо слова не шли. Пять бесед…
“Сеет он потихоньку слова свои, осыпаются они на меня, как пепел дальнего пожара, и не нужны мне, не трогают души. Как будто чёрный сон вижу, непонятный, тягостно-скучный.
— Молчишь ты, — раздумчиво говорит он, — это хорошо. Пусть их как хотят, а ты молчи. Другие ходят ко мне, те — говорят. Многое говорят. Нельзя понять, о чём они. Про женщин каких-то. А мне что? Про всё говорят — а про что про всё? Непонятно. Ты знай молчи. Я бы тоже не говорил, да игумен тут — утешай, — надо утешать! Ну, ладно. А сам я очень бы молчал. Ну их всех к богу! У меня всё отнято. Молитва только осталась. Что тебя мучают — ты не замечай. Беси мучают. Мучили и меня. Брат родной. Бил. А то — жена. Мышьяком меня травила. Был я для неё как мышь, видно. Обокрали всего. Сказали — будто я деревню-то поджёг. В огонь бросить хотели. И в тюрьме сидел. Всё было. Судили — ещё сидел. Бог с ними! Я всех простил. Не виноват — а простил. Это — для себя. Лежала на мне гора обид. Дышать не мог. А как простил, — ничего! Нет горы. Беси обиделись и отошли. Вот и ты — прости всем... Мне — ничего не надо. И тебе то же будет.
На четвёртой беседе просит он меня:
- Принеси-ка ты мне хлебца корочку. Я бы пососал... Немощен я — прости ты меня, Христа ради!
Жалко мне его стало до боли в сердце. Слушаю бред его и думаю:
“Зачем это надо, о господи? Зачем же?” ”.
Странно, что это очень читабельно. Натерпелся я, бедный, от этих горемык-писателей теперешних, всё видящих в чёрном свете и заодно с самовыражением по поводу этой черноты над своими же читателями издевающихся, чтоб мы поняли, что лишь в сверхбудущем будет хорошо. Горький в 1908 году, видно, был гораздо-гораздо оптимистичнее: с любовью пишет. И сама подробность – от любви к предмету.
Но. Предмет этот – отход от Бога как индивидуализма в вере. Именно индивидуализма:
“…О ту пору люди-то всё ещё не были живы и видны для меня, и старался я только об одном — себя бы в сторону отодвинуть”.
Ведь и с самого начала, при всей, казалось бы, бескорыстности, Матвей любит Бога ради себя:
“Ревностно полюбил я церковное; со всем жаром сердца ребячьего окунулся в него, так, что всё священно стало для меня, не только иконы да книги, а и подсвечники и кадило, самые угли в нём — и те дороги! Ко всему прикасаюсь с трепетом, с жуткой радостью, в алтарь войду — сердце замирает, камни пола готов целовать. Чувствую себя в луче ока всевидящего, и направляет оно шаги мои, обнимая силою нездешнею, грея светом ярким, от которого глаза слепнут, и не видит человек ничего кроме, как только себя. Стою, бывало, один во храме, тьма кругом, а на сердце — светло, ибо в нём — бог и нет места ни детским печалям, ни обидам моим и ничему, что вокруг, что есть жизнь человеческая. Близость к богу отводит далеко от людей, но в то время я, конечно, не мог этого понять”.
И ведь само христианство родилось-то как предвестие некого ницшеанства, на окружение плюющего:
“Недаром греко-римская языческая власть называла первохристиан безбожниками. Истинный Бог "освобождал человека от морализма…"” (Бибихин. Новый ренессанс. М., 1998. С. 207).
Как факт… (Посмотрел я в начало, а там – о повести. Пусть и после её написания, сообщает Горький:
“Я - атеист. В “Исповеди” мне нужно было показать, какими путями человек может придти от индивидуализма к коллективистическому пониманию мира...”).
То есть – иллюстрацией, мол, является его повесть.
Вот и получай удовольствие! А это и не художественность вовсе!
Или словам Горького вне повести не надо верить? И словам в повести, подчёркивающим путь ОТ индивидуализма, - тоже: вдруг они – результат не вдохновения, а правки и подготовки в 1923 году “для собрания сочинений в издании “Книга””?
И тогда я подумал: вдруг Горький исповедью, - хоть и не своей, - от ницшеанства своего отделывался мучительно? Очень уж здорово было там, в надмирности...
“День ясный, по снегу солнце искрами рассыпалось, на деревьях синицы тенькают, иней с веток отряхая. Подошёл к ограде и гляжу в глубокие дали земные; на горе стоит монастырь, и пред ним размахнулась, раскинулась мать-земля, богато одетая в голубое серебро снегов. Деревеньки пригорюнились; лес, рекою прорезанный; дороги лежат, как ленты потерянные, и надо всем — солнце сеет зимние косые лучи. Тишина, покой, красота...”
Ницше ж – это ж из ряда вон, то есть эстетика в первую очередь… Для писателя.
И этот Матвей же у Горького – из ряда вон:
“…считая себя человеком особенным в намерениях своих и внутренно ставя образ свой превыше всех”.
Аристократа, к которому его – по сюжету – в монастыре после изувера приставили, превзошёл аристократизмом. А монастырь – подлинным свинюшником представил.
Под флагом красоты, наперекор всему, привёл Горький Матвея в монастырь и так же и увёл:
“Размахнул лес зелёные крылья и показывает обитель на груди своей. На пышной зелени ярко вытканы зубчатые белые стены, синие главы старой церкви, золотой купол нового храма, полосы красных крыш; лучисто и призывно горят кресты, а над ними — голубой колокол небес, звонит радостным гомоном весны, и солнце ликует победы свои”.
Ладно. Оставим пока как вариант, что Горький через исповедь аристократа-героя от собственного ницшеанства избавляется. И читаем дальше.
И оказалось, что не один он, этот Матвей, по стране ходит и Бога ищет. И галопом по европам – одного, другого, третьего искателя (Матвея ж рассказ) показывает. И все не годны. А всё равно – какой-то клуб народных философов. Но безбожники.
“Жалко их, ибо они уже как безумные, но и противно душе с ними, когда видишь, что во всякое лицо готовы они метнуть желчный свой плевок и солнце поганили бы плевками, если б могли”.
Всё – не то… Персонажу.
А и читателю тоже прискучивает этот галоп. И всё ж в одну степь: от Бога. А тут ещё и общо от скачки. И затянуто. Или и Горький хотел читателя своего – как нынешние писатели – тупо довести до ручки, до неприятия этого индивидуализма в Боге? Заразить…
Во. Противоположное на минуту:
“В полях земля кругла, понятна, любезна сердцу. Лежишь, бывало, на ней, как на ладони, мал и прост, словно ребёнок, тёплым сумраком одетый, звёздным небом покрыт, и плывёшь, вместе с ней, мимо звёзд…
Тени плавают, задевают стебли трав; шорох и шёпот вокруг; где-то суслик вылез из норы и тихо свистит. Далеко на краю земли кто-то тёмный встанет — может, лошадь в ночном — постоит и растает в море тёплой тьмы. И снова возникает, уже в ином месте, иной формы... Так всю ночь бесшумно двигаются по полям немые сторожа земного сна, ласковые тени летних ночей. Чувствуешь, что около тебя, на всём круге земном, притаилась жизнь, отдыхая в чутком полусне, и совестно, что телом твоим ты примял траву…
Словно таешь, прислонясь ко груди её, и растёт твоё тело, питаясь тёплым и пахучим соком милой матери твоей; видишь себя неотрывно, навеки земным и благодарно думаешь:
“Родная моя!”…
Торопливо горят звёзды, чтобы до восхода солнца показать всю красоту свою; опьяняет, ласкает тебя любовь и сон, и сквозь душу твою жарко проходит светлый луч надежды: где-то есть прекрасный бог!”
Это – перед решительным рывком. Куда? – Впечатление, что не в заранее кем-то придуманное:
“И нельзя говорить человеку: стой на сём! но — отсюда иди далее!”
Это говорит Матвею встреченный им воистину народный мудрец, Иона.
“- Не бессилием людей создан бог, нет, но — от избытка сил”.
От богоискательства – к богостроительству! И себя – в боги.
Так если относительно признанного Бога, то это ницшеанство ж…
Ну, вообще-то, если от него душа Горького хочет отказаться, то как раз через отдачу ему должного и надо бы идти… - Кто ж Он, если не Бог? Дьявол?
“— Богостроитель — это суть народушко! Неисчислимый мировой народ! Великомученик велий, чем все, церковью прославленные, — сей бо еси бог, творяй чудеса!”
Вот.
Напечатано буквами на бумаге. То есть – всё-таки заранее известное, не подсознанием в противоречиях рождённое. Иллюстрация.
Плохо.
Но смешно, что освещает же путь, может, каким надо было идти российской революции через 10 лет после того, как это было написано, и каким она не пошла.
“— Врёшь! — мол. — Никогда не поставлю человека рядом с богом!
— И не надо, — говорит, — и не ставь, а то господина поставишь над собой! Я тебе не о человеке говорю, а о всей силе духа земли, о народе!”
Ведь поставили-то в итоге – господина, построили вместо социализма и коммунизма политаризм. Политаризм, от сельскохозяйственного, что был в Древнем Египте, отличающийся тем, что он стал промышленным. И всё. – Нет, не всё. Ещё на словах на неограниченный прогресс был нацелен, на “творяй чудеса”. (Ну кто мог знать, что через сто лет увидится, что от неограниченного прогресса – смерть человечеству.)
Так, думается теперь, может, и хорошо, что загнулся тот политаризм, социализмом именовавшийся. – Отряхнёт теперь социализм имя своё от “творяй чудеса” материальные, и да будут отныне с ним связаны народом таки творимые чудеса духовные.
Но от Горького тут только “отсюда иди далее!” - В неизвестно как. Ибо хозяин Земли, ““СУПЕР-СУБЪЕКТ” ИЗ 147-МИ КОРПОРАЦИЙ КОНТРОЛИРУЕТ 40% ДОХОДОВ” (http://via-midgard.info/news/in_midgard/18935-finansovaya-tiraniya-proval-velichajshego.html ), и как его от доходов и от прогресса отговорить – неизвестно. Разве что – перспективой спасения жизни и ролью сохозяина…
Единственно, что актуально на сей день у Горького – что не тянет, по Матвею, народ на звание бога. Мудрец его направляет на завод, к рабочим. У них он сам учился мудрости, мол.
Но это – голословно.
Не мог рабочий люд научить Матвея, как Иону научил, истории, в которой акцент – на народе. А ведь есть же ещё и мысль о будущем. Не мог.
И правда. Вид завода ужасен. Рабочий Михайла ужасен. Но вот он умылся. Но вот заговорил… И тут же прикнопил Матвея ницшеанцем (это я для краткости неведомым для Михайлы словом Матвея называю).
“— Видимо, боитесь вы смешать себя с людьми и потому — может быть, безотчётно — думаете: хоть болячки, да мои! И таких болячек — ни у кого нет, кроме меня!
Но это вас от людей не отличает, вы ошибаетесь, — говорит Михайла. — Все так думают. Оттого и бессильна, оттого и уродлива жизнь”.
Но красноречив как…
“Вот это самое “я” и есть злейший враг человека!”
Мда… Легко было Горькому так писать, пока через 80 лет михайлы в качестве гегемона не опозорились перед всем светом за то, что плюнули на “я”…
(А могло ли быть иначе, если весь-то свет с приоритетом на “я” так и остался. Прав, выходит, был Маркс, думавший, что социализм можно лишь на ВСЕЙ планете построить, а не на части её.)
И дальше читать проповедь во славу “мы” и за упокой “я” совсем скучно.
Вот что значит нехудожественность!
Так не получить ли из этого урок? Упаси вас господи, кто обуреваем новой левизной и новым традиционализмом, нести это в массы “в лоб”. “Это” должно их озарить из себя.
Луначарский хвалил Горького за его повесть, а я буду хулить. И тем служить будущему. Оно, может, таки в чём-то ницшеанское. Не разделённое на аристократов и пошлую массу, а сплошь всё из аристократов. Из художников, попросту говоря. Которые то, что выражено “в лоб”, не жалуют.
А персонаж Горького совсем в общее ушёл. Долгий разговор с Михайлой на сеновале вообще не приведён.
Поутру Михайлы дядя попросту говорит, что надо учить политэкономию.
Михайла оказывается учителем. (Тогда не понятно, зачем было делать его чумазым, как рабочего со смены, когда встретил его Матвей.) Учит – непонятно как. Повёл детей в лес… Матвею предложено не идти работать на завод, а читать книги. Не понятно, откуда у дяди и Михайлы такой достаток. От платы за учёбу детей? А почему у их родителей есть чем платить? – Сказка какая-то.
Как после этого верить озарениям Матвея?
“Вдруг все начнут с полуслова понимать меня, стою в кругу людей, и они как бы тело моё, а я их душа и воля, на этот час. И речь моя — их голос. Бывало, что сам живёшь как часть чьего-то тела, слышишь крик души своей из других уст, и пока слышишь его — хорошо тебе, а минет время, замолкнет он, и — снова ты один, для себя”.
Впрочем, почти всё стало на место: “В те дни работал я на заводе за сорок копеек подённо, таскал…”
“…свободный, бесстрашный народ”.
Такой ад, что терять нечего? Слабое звено капитализма… Готовится революция…
И пошёл монах в революцию. И воплотилось правило: один – за всех, и все – за одного.
“Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погружённое в душе каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылён ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепок силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты — равен каждому.
Так начал я скромный свой благовест, призывая людей к новой службе, во имя новой жизни, но ещё не зная бога нового моего.
В Златоусте, в день какого-то праздника, на площади говорил, и опять полиция вмешалась, ловили меня, а народ — снова скрыл”.
И…
Кончается это единением монаха Матвея с народом-богом, которые “на пару” внушением исцеляют парализованную девушку во время крестного хода…
Вот те на!
*
И тут надо очнуться от наваждения. Это ж всё-таки исповедь не Горького, а монаха. И речь соответствующая, приближенная к церковнославянской. По лексике и по ритму: “О ту пору”, “в луче ока всевидящего”, “шаги мои”, “силою нездешнею”, “светом ярким” (не “мои шаги”, не “нездешней силой”, не “ярким светом”). А я ж с самого начала был движим идеей некого экспрессионизма, мол, революционеров-индивидуалистов, недовольных поражениями революций и оттого выражающихся “в лоб”. – Какое ж “в лоб”, если НЕТ в тексте Горького-то: есть один персонаж?!
Первое чудо в повести – да – было разоблачено: фосфором была натёрта икона, потому и светилась. Но чудеса в монастыре ж обойдены молчанием. Да, о них лишь общеизвестно (и мало ли что общеизвестно), что чудеса есть. Но всё-таки не разоблачены. Наконец, последнее чудо, очевидное. Так в конце концов Горький-атеист и, зная, какова сила внушения на больных, - одно плацебо чего стоит, - он вполне мог и от себя написать о “чуде” выздоровления.
И всё-таки как нарочито неожиданно чудо введено. При этой плавности и обстоятельности всей предшествующей части исповеди. Явно ради шока. Ради экспрессионизма.
Это не реалистическое произведение.
Луначарский не прав:
“Идейная сила и совершенная новизна повести Горького заключается именно в грандиозной картине: измученный народ в лице своего ходока, своего искателя лицом к лицу сталкивается с “новой верой”, с истиной, которую несет миру пролетариат” (http://lunacharsky.newgod.su/lib/raznoe/svet-vo-tme-recenzia-na-ispoved-m-gorkogo).
Луначарский писал свою рецензию в 1909 году. Он считал (и верно, как оказалось), что в России дело идёт к новой революции. И в Горьком он видел некого Тургенева, открывшего нигилизм, до того не замечаемый. Однако он ошибся. Матвей у Горького всё же не из крестьян, а из духовенства (он был приёмышем дьячка, и - недолго - приказчика). И хоть “в русском образованном классе <…> безусловно господствующим было социалистическое мировоззрение…” (http://www.rhga.ru/science/conferences/seminar/russm/stenogramms/revolution.php), но не у духовенства; как факт, “к 42-му году из 146 тысяч духовенства было уничтожено 125 тысяч” (Там же). Горький не социальным озарением был движим, - что необходимо для реалиста, - когда писал свою повесть. А Луначарский просто проигнорировал её конец.
Да, наивное, самородное христианство приёмыша чуть не еретика дьячка, как и первоначальное христианство (по Бибихину), было по-ницшеански индивидуалистично и не от мира сего. За эти оба качества оно и было нужно Горькому в 1908 году, чтоб тащить себя, - как Мюнхгаузен из болота, - чтоб тащить себя к коллективизму, но остаться всё же не от мира сего. Революционеры его чуть-чуть не устраивали своей приземлённостью (при всей новизне их предназначения). Своей политэкономией в ущерб душе.
Для того, видно, он вот такую сцену ввёл:
“— Я, — мол, — не потому в монахи пошёл, что сытно есть хотел, а потому, что душа голодна! Жил и вижу: везде работа вечная и голод ежедневный, жульничество и разбой, горе и слёзы, зверство и всякая тьма души. Кем же всё это установлено, где наш справедливый и мудрый бог, видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих?
Собралось довольно много народа, слушают серьёзно; кончил я — молчат. Потом старый модельщик Крюков говорит Костину:
— Монах-то, пожалуй, глубже видит, чем ты с товарищами! Он — с корня берёт; видал?”
Я позволю себе высказать предположение, что поражение революции 1905 года Горький мог считать результатом такой зацикленности на политэкономии и забвения о благе недостижительности и душе. После 1905 года было целое поветрие корить революционеров. Вот и Горький в ту же степь…
Авангардные художники в злобе на интеллигенцию, предавшую побеждённую революцию, аж доходили до прямых оскорблений публики своими произведениями и до скандалов.
Горький тоже кое до чего, действующего “в лоб”, дошёл – до фрагментов прямой демонстрации того, что есть не от мира сего. Цитировавшимися исключительными пейзажами. Введением чуда. Описанием так называемых изменённых психологических состояний. Последнего такого состояния – принципиально антиницшеанского по своему коллективизму:
““Богостроитель народ?!”
Рванулся я, опрокинулся встречу народу, бросился в него с горы и пошёл с ним, и запел во всю грудь:
— Радуйся, благодатная сила всех сил!
Схватили меня, обняли — и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только — радость, необъятная, как небеса. Был я раскалённым углём пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем, окружавшим меня во время общего полёта нашего”.
Такое, можно поверить, воспламеняет не хуже актуального политического лозунга. Ведь что такое актуальность? Это некая готовность масс. У каждого ж, в такой массе находящегося, тоже ж несколько изменённое психологическое состояние. Человек в толпе не тот, что сам по себе.
Ленин от имени революции как антимещанства, естественно, взревновал такого чудно`го Горького. Но сам Горький, наверно, по другой причине, по художественной, написал о повести: “Сам я очень недоволен ею...”.
За экспрессионизм, пытающийся заразить. Что слишком просто.
Есть, правда, ещё борьба с собою, ницшеанцем. Это – скрыто. За то, может, он и включил повесть в собрание сочинений.
3 апреля 2012 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/107.html#107
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |