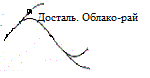
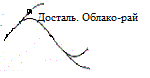
С. Воложин
Досталь. Облако-рай.
Художественный смысл
|
Все люди должны когда-то стать творцами (как вот этот, пусть корявый, парень) или сотворцами (глубоко чувствующими слушателями, кем – парадокс! – и оказались, по сути, эти не менее корявые провожающие Колю, делегирующие ему разведать будущее). |
Историческая тоска
Был такой фильм режиссёра Досталя, “Облако-рай” (1990). Фильм-прощание с этим так называемым социализмом, - проклятым, а всё же своим. До реставрации капитализма оставался один год. Премьера состоялась в октябре 91-го. Пару месяцев оставалось… 8 декабря фактически, 26 декабря официально… И вот первые кадры начинаются с трагической музыки и набегающими из космической глубины со звёздами порядковыми числами от единицы до одиннадцати… Чуял режиссёр? Или просто обыгрывал название “Киностудия 12”?
Спустя 21 год я в один день посмотрел фильм ещё раз, и в этот же день прочёл про некий “изм”, что он “может брать на вооружение социалистическую программу, но в силу естественных стремлений рабочего класса тяготеет к социальному государству” (Шубин. http://lib.rus.ec/b/262767/read). А не к социализму.
Так если под тот “изм” подставить советский социализм, то получилось бы, что он естественным образом тяготеет к превращению в несоциализм. Ибо социальное государство – это одна из двух фаз, между которыми в ХХ веке заколебалось индустриальное капиталистическое общество: “между двумя неустойчивыми моделями: “свободным” (только не от корпораций) рынком и социальным государством” (Шубин).
Тэтчеризм, наверно, та метка, от которой отсчитывать можно начало очередной фазы, “свободного” рынка (сейчас, с крахом СССР, эта фаза раскручивается вовсю: смотрите, какие бои в Греции, Испании, Франции, акция “Захвати Уолл-Стрит”). А до того было так называемое “славное тридцатилетие” “социалистической буржуазии” (http://v-kalashnikov.livejournal.com/181049.html).
Неустойчивость каждой фазы капитализма обеспечила устойчивость формации при естественной рабочей безответственности. И эта же безответственность свалила социализм, так называемый. И она ж, безответственность, не совсем неосознаваема. Чует кошка, чьё мясо съела. Вот режиссёр это и выразил. Полуосознаваемое.
Тогда это казалось тоской от недавнего брежневского застоя. А спустя 20 лет – тоской от чего-то более глубокого.
“Ведь… в случае социалистического перехода происходит качественное изменение классов. Рабочий из исполнителя становится организатором деятельности, а все ли готовы к этой нагрузке и ответственности” (Шубин). Чтоб стать теперь организатором, рабочему надо образование иное получить. А получив, надо ещё опыта набраться. Причём надо, чтоб это охватило всех, все миллионы рабочих (и крестьян), сколько их есть в стране. И тогда можно будет отказаться от управления и перейти к самоуправлению и отказу от государства, без чего социализм не социализм.
Немыслимое дело.
А всё-таки отказ от самоуправления у рабочего создаёт смутное чувство вины.
Смотрите на это лицо.

Это её, вину, чувствует бездельничающий в воскресенье Коля, надоедающий всем, к кому пристаёт со своими пустыми разговорами. Это она, вина, дёрнула его за язык, и он сказал другу, Фёдору, что собирается уехать к другу на Дальний Восток.
Воскресенье. Государственное начало оставило человека самому себе. А у того ничего нет. И не в том дело, что общественной жизни нет, хотя бы клубной, не в том беда, что и личного хобби ни у кого нет. А в том трагедия, что и перспективы к переходу к самоуправлению – нет. Нет внутренних сил. Люди готовы только к манипулированию собою.
Какой толстый настойчивый звук сопровождает урбанистический, заводской, складской пейзаж, снятый с птичьего полёта в заставке, перед титрами с именем артиста, играющего главного героя. Как басовый ключ, задающий тональность всего последующего действия. Заводов там больше не будет – воскресенье, но давящая промышленность-государственность скажется обескуражено на своих марионетках-людях.
Мало, что тут манипулятором выступил такой же рабочий, Федя (и его жена), как и сам Коля – рабочий. Все ж, зрители, понимают, что манипулируют нами всеми не рабочие некие.
И каким-то боком показано ж, с какой эффективностью могут-таки руководить самые простые рабочие. А вот… Только как анекдотическое исключение эта способность проявилась.
Где-то тогда, в перестройку, прокатилась по стране успешная кампания протестов общественности против планов поворота великих северных рек на юг. Наверно, из-за неё лично я пришёл к выводу о неизбежности глобальной экологической катастрофы и смерти человечества от прогресса. Слова “недостижительность” касательно российского менталитета я тогда ещё не знал. И не звал к упору на него.
А эта недостижительность вовсю царствует в этом фильме. Никому ничего не надо, никто ни к чему не стремится. Рай, казалось бы. А тоска.
Человеку естественна активность.
Но хороша ли активность материальной достижительности, настроение, реявшее в те дни в воздухе и готовившее общественное мнение к тому, чтоб промолчать при развале СССР и реставрации капитализма?
Подспудно, вторым планом, намёком проходит первопричина развернувшейся перед нами драмы.
“- Коля, что же это? А-а. Ты не один.
- Здрасьте, Филипп Макарыч [Колиному соседу по коммуналке за двоих отвечает Фёдор].
- Здрасьте. Что же это, Коля?
- Что?
- А вот то, что происходит? Значит, ты решился всё-таки?
- На что решился?
- На это самое… На отъезд?
- Я разве сомневался [оглянувшись на Федю; он же тому сказал, что ему первому сообщил]?
- Ну конечно, Коля. Конечно. Ты разве не помнишь? А ты вспомни. Ты вспомни, как, бывало, вечерами ты со мной советовался. Спрашивал. Про жизнь, про людей [соседу по коммуналке нужно выгоду получить из намечающегося освобождения Колей своей комнаты]. И как тебе быть в этой жизни. Вспомни [в смысле – от благодарности за совет уехать, - которого вообще-то не было, - Коля должен будет оставить комнату в распоряжение соседа]. А я тебе ещё растолковывал… растолковывал, что каждый человек должен найти своё место, свою цель. Ты помнишь?
- Не знаю. Может, и помню. Счас разве что вспомнишь, чё помнишь.
- Ничего. Ничего-ничего. Вспомнишь. Хорошие дела не забываются.
Да. Что я тебе хотел сказать, Коля… Да, ты правильно сделал, что меня послушался. Теперь я за тебя спокоен. Теперь, Коля, я в тебя верю [и обеими руками пожал обе руки Коли]
- Спасибо, Филипп Маркович [обескуражено отвечает Коля, благодарно вставая, но чувствуя, что его оболванивают]. Я, правда…
- Я пойду [удирает сосед, чтоб закрепить успех тем, чтоб его слова стали последними]. Не буду вам мешать [собирать вещи с Фединой помощью]. Коля, я возьму одну [приостанавливается он в дверях, снимая один из двух эспандеров, висящих на стене]?
- Берите [сдаётся Коля, изобразив на лице растроганность, что смог уже и отблагодарить]”.
Потом к соседу перекочует и вся мебель Коли, и распоряжение комнатой (уже и квартиросъёмщик нашёлся). Во, какая достижительность, какая предприимчивость! А подана она с отвращением. Но мало отвращения к предпринимательству, чтоб строй из именуемого социализмом, стал им.
“Прогресс по Лаврову – это “уменьшение государственного принципа…”” (Шубин).
Так вот для того тут с тоской и показано воскресенье и отъезд аж на Дальний Восток, что подсознание требовало уменьшения государственного принципа и в будни, и везде, что уж совсем не светило. Нигде. И на Дальнем Востоке, куда уехал Коля. Или даже в Москве, через которую он собирался на Дальний Восток ехать, и вполне мог – по своей безалаберности – в Москве остаться. И там бы было не так скучно, как в провинции. – Всё равно – плохо. Ибо, собственно, и в показываемом захолустье полно культуры. Даже и духовной. – Или это издевательство? Чудное исполнение по московскому радио “Соловья” Алябьева… Затаскано? Никто внимания не обращает? А обратил, Коля, так чтоб передразнить. А следующая, не менее колоссальная, - фон скуки бесконечной. – Не для здешних жителей самое лучшее исполнение классической музыки по радио. И государственная культура не спасение.
“…человеческая личность может быть превращена в инструмент культуры. Это значит, что человеческое начало, его субъектность, снова подавлено, человеческое начало погашено. Поле культуры – условие развития человеческого начала, но оно же – и угроза ему” (Шубин).
Тотальная тюрьма для настоящих социалистов – видеть перед собой такой народ. А может, и не народ виноват, а объективная история.
В первой половине ХХ века тенденции развития индустриального общества [специализация и стандартизация] не способствовали [настоящему социализму, с самоуправлением]. Предоставит ли кризис индустриального общества новый шанс рабочим стать хозяевами своего дела и своей деятельности, вырваться из пролетарской ниши?” (Шубин).
Теперь, спустя 21 год, представляется, что Досталь об этом задумывался.
Зачем он сделал из своего Коли сочинителя незаурядных песен? Зачем он пригласил на главную роль барда Андрея Жигалова? А главное, зачем он сделал так, будто это приглашение – пришей кобыле хвост? Уж очень как-то не подходит бард – пустому Коле. Не помогают ни слова песен, ни исполнение их, достойные приза ““За разрушение барьера между фильмами для избранных и кино для всех” на КФ “Кинотавр-91”” (Википедия). (Слушать тут и тут)
|
Звездочка моя, где ж ты милая? На небе вечном, на небе темном. На небе вечном, на небе темном. Звездочка моя, ты мне откройся, Чтоб сиял и я, жизнь свою любя. Чтоб сиял и я, жизнь свою любя. Звездочка моя, есть ли ты на свете? Или грешник я, живу на свете зря? Или грешник я, живу на свете зря? Звездочка моя, где же ты милая? На небе вечном, на небе темном. На небе вечном, на небе темном. |
Облако-рай.
|
На небе облако-рай, поди его угадай Найти, узнать и понять невозможно Какого цвета и где, скажи пожалуйста мне Скорее ты там, где сыскать невозможно А я от мысли дрожу, что никогда не найду Хочу забыть, убежать, закрутиться Где ты, где ты, облако-рай Листья надежды мои не роняй Тоской и грустью лечусь, душой на небо я рвусь В густом тумане ищу свое счастье Быть может, кто-то когда мне вдруг откроет глаза Увижу его сквозь ненастье. Но нет его и опять не устаю повторять, Живя надеждой о встрече с тобою… Где ты, где ты, облако-рай Листья надежды мои не роняй |
Утрировано примитивно исполнение. Элементарны слова. Чёрт знает, что там с пунктуацией при написании. Но в мелодии – разлом. На суету и стенание. И пусть это безыскусное заражение чувством. Но – вставленность налицо.
В самом начале, когда ещё не знаешь, что к чему, а в каком-то закутке приткнулся какой-то пацан и срывающимся голосом заунывно под перебор гитарных струн тянет первую песню – её не воспринимаешь как эпиграф, как что-то имеющее отношение к той грандиозной трагедии, которую индустриальное общество сыграло с несвоевременным социализмом.
Но и в конце, вторая песня, звуки которой падают на, казалось бы, уже подготовленную тему некой мировой трагедии, чувствующейся сквозь мизерную комедию – всё равно песня как-то не связывается с персонажем. И не потому, что она звучит за кадром.
Слишком парень низок, а его творение высоко.
Это противоречие, по-моему, трагедию лишь углубляет. Хоть “в лоб” даётся-то как раз её разрешение: все люди должны когда-то стать творцами (как вот этот, пусть корявый, парень) или сотворцами (глубоко чувствующими слушателями, кем – парадокс! – и оказались, по сути, эти не менее корявые провожающие Колю, делегирующие ему разведать будущее).
Ибо если трагичен был уже Высоцкий с его “Узнай, а есть предел там, на краю земли,
И можно ли раздвинуть горизонты”, то просто траурно делегирование в фильме Досталя.
“Когда рабочий получил отдельную квартиру, сытость, добротную одежду, основные знания о мире и поток информации через телевизионный экран, его стало трудно чем-нибудь удивить и увлечь. Его протестная энергия угасла. Он готов терпеть произвол начальника и ритм цеха, если у него не отнимают уже полученных благ и досуга. Он не желает преодолевать стену между трудом и досугом. Досуг пролетария заполняется развлечением, а не учебой, так напоминающей труд <…>
Как справедливо заметила современный философ Н. Герулайтис, в наше время рабочий не стремится к приобретению знаний свыше нормы, данной ему современным обществом, потому что в противном случае он перестал бы быть рабочим. В развитом индустриальном обществе (в отличие от чистого капитализма) путь к высшему образованию открыт для представителей семей рабочего класса, и тот, кто хочет покинуть пролетарскую среду, затратить усилия на образование и превратиться в часть интеллектуального слоя, может это сделать. Кто остался рабочим, за редкими исключениями сделал свой выбор – тот не хочет затрачивать усилия на дальнейшее образование. Соответственно, он не имеет интеллектуального ресурса для противостояния Системе. Ведь для противостояния манипуляции сознанием и понимания социальных причин своих житейских проблем тоже нужна определенная квалификация и интеллектуальное напряжение.
Из этого следует, что преодолеть разделение общества на рабочие классы и руководящую элиту может только интеллектуальный класс, который в себе сочетает черты и работника, и интеллигенции, и управления (самоуправления). Но это – уже не пролетариат” (Шубин).
Да простит мне читатель, но вспоминается словосочетание “постиндустриальное общество” и 25 миллионов высококвалифицированных рабочих (или они не должны называться рабочими?) мест к 2020 году, обещанных программой модернизации России, обещанных пока от имени государства, но. Ещё через сколько-то десятков лет всё население России станет интеллектуальным классом. И. Тогда-то победа настоящего социализма и станет в повестку дня.
А пока… Тоска. Историческая тоска.
Не место красит человека, а человек – место.
17 июля 2012 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/118.html#118
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |