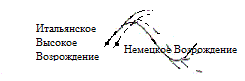
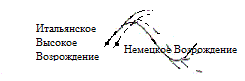
С. Воложин
Дюрер. Апокалипсис
Художественный смысл
|
Будучи немцем, не мог забыть о когдатошнем торжестве готики, напрямую воплощавшей переживание благодати. Но, будучи человеком своего времени, он не мог смириться и с готическим требованием, что “нормы изображения природы… выше, чем сама природа”. Он выход из противоречия нашёл в выражении своего, субъективного видения религиозности. |
Дюрер-ингуманист и злободневность.
Всё-таки здорово, когда подтверждается твоё общее подозрение насчёт одного из самых глубоких обобщений касательно истории искусства. Подозрение это состоит в том, что главенствующие идеалы эпохи являются парами. Противоборствующими. Ну разве что, когда идеал – гармония, пары, может, сливаются (надо разбираться).
На подтверждение я наткнулся нынче в связи с Дюрером. В такой загадочной для кого-то фразе Макса Дворжака: “Духовная программность напоминает о средневековье, тогда как личностность высказывания предвещает то, что спустя несколько десятилетий станет главной чертой, сокрушившей имперсональные художественные идеалы Ренессанса в творчестве Микеланджело, а после Микеланджело подчинившей себе и все европейское искусство. Так “Апокалипсис” Дюрера стоит между двух эпох, являясь завершением одной и вводя в другую” (История искусства как история духа. С. 236-237).
Дело в том, что поздний Микеланджело, маньерист, оказался ренегатом Возрождения, Высокого Возрождения. Он разочаровался в том, что идеал гармонии, идеал Высокого Возрождения, оказался преданным разнузданной телесностью в пику духовности. По времени перед маньеризмом существующим мыслится идеал трагического героизма, идеал воинствующего оптимиста в отличие от исторического оптимиста, более выдержанного, обладающего идеалом гармонии, идеалом слияния высокого и низкого. Когда низменное наступает (как вещизм в СССР после войны и разоблачения сталинизма), то трагический героизм (Высоцкого, например, левого диссидента), опираясь на, казалось бы, совсем недавнее торжество гармонии личного и общего (победу в Великой Отечественной войне), - трагический героизм думает, что можно прошлое вернуть, ведь люди – те же; надо только как бы разбудить заснувших в потребительстве. Крикнуть громче – и они проснутся. Сейчас. Немедленно. “Вот-вот и взойдёт” (солнце гармонии). А правый диссидент (Галич) в то же время так же неистово рассчитывает на немедленную победу… – Ну как сказать? – Сторонников возрождения капитализма, раз левые диссиденты надеялись спасти смертельно заболевший социализм. Капитализм я считаю низостью. Социализм (не советский, марксовский, государственный, а самоуправленческий, прудоновского-бакунинский, что был у Парижской Коммуны и у арагонцев во время гражданской войны в 1936-м в Испании), - социализм я считаю высотой. В “Гамлете” низостью я считаю умельца жить самому и дающего так же жить другим – “прокапиталиста” Клавдия, а, скажем, Лаэрта, поборника дворянской чести – высотой. Оба думают, что можно вот-вот победить. И лишь Гамлет – сверхисторический оптимист – знает, что лишь в сверхбудущем победит гармония. Шекспир “был” с Гамлетом. Поздний Микеланджело (если допустить мысленный эксперимент) “был бы” с Шекспиром. А Дюрер – с Лаэртом и Высоцким. (Самозабвенно игравший Гамлета Высоцкий играл своё идейное будущее, до которого сам почти не дожил, почти не успел разочароваться в нас, вовремя умер.) То есть Дюрер оказался между идеалом “Ренессанса в творчестве Микеланджело” и идеалом Микеланджело же, но “после” “Ренессанса”. Средневековье – вполне по диалектике – “после” “Ренессанса” как бы возродилось в одной из противоборствующих пар идеалов. И это была личностная, искренняя вера в Бога. Производительная как бы. Реформация. В пику антиподу, потребительскому католицизму, скажем так.
И вот как нынешний – если мыслимо – единомышленник того тогда разложившегося католицизма тянет теперь Дюрера к себе в сообщники:
“Да, конечно, земной мир полон мерзостей. Да, конечно, он осужден на гибель. Но почему греховный мир так соблазнительно прекрасен? Прекрасна юная женщина в праздничном наряде. Прекрасна девушка в толпе, преданно склонившая голову к плечу юноши. Прекрасен сильный мужчина, гордо и независимо подпершийся рукой. Прекрасен корабль с туго надутыми парусами. Прекрасен далекий горизонт. Прекрасен весь земной мир. Художник согласен с приговором неба, но не может распрощаться с обреченным миром без сожаления, не прославив его красоту” (http://www.lgroutes.com/art/durer/durer-g-14.htm).
Это о 13-й гравюре дюреровского цикла “Апокалипсис”, о “Вавилонской блуднице. (Откр. 17,1-18)”. (1497-98)

А вот как об этих же персонажах пишет Макс Дворжак:
“Дюрер представил вавилонскую блудницу в облике прекрасной венецианки, изображая ее царственно и обольстительно, как некое волшебное видение; она подманивает к себе усталого странника, показывая ему кубок. При этом она является не провидцу, как в Библии, но целой толпе мужчин и женщин, одетых по моде того времени. Но, кажется, только один восхищается ею — монашек с широко открытыми глазами и сложенными в трубочку губами, молитвенно опустившийся перед нею на колени. На других лицах написаны робость, испуг или протест. Боязливо косятся на нее паж и дама. Презрительное и упрямое выражение застыло в глазах крестьянина. Уперев руки в бок, в центре группы в уверенной позе изображен мужчина, критично и свысока вглядывающийся в блудницу, в нем мы можем предположить самого Дюрера” (С. 234-235).
Сравним: “робость, испуг… протест… Презрительное и упрямое выражение”, слова гораздо более верные, чем: “Прекрасна девушка”. Увеличим её лицо. Посмотрим, насколько оно прекрасно. При том, что красивое женское лицо Дюрер умел-таки изобразить.


Без комментариев, как говорится.
Друг девушки из толпы не решается смотреть, куда все, и смотрит на нас.
Все (это трое, собственно) совсем не в восхищении. Особенно тот, кто чуть не спиной к проститутке повернулся.

Правда, трудно что-то возразить насчёт пейзажа.

Но гуманистическая тенденция процитированного современного интерпретатора очевидна.
А Дюрер, этот представитель трагического героизма, совсем не гуманист, особенно в том, испорченном в конце Возрождения, смысле, в смысле вседозволенности со стороны одной из всегда пары главных противостоящих идеологий. До первого восстания против католического гуманизма оставалось 30 лет, до первых погромов - 20. О чём верхняя часть этой гравюры (да и весь цикл) предвещает.
Теперь другие доводы касательно ренегатства Дюрера относительно Высокого Возрождения, касательно гармонии тела и духа, касательно приземлённости небесного.
Нет, Дюрер не прыгнул вспять во времени, в готику. Он не загробные ценности воспевает, не бесплотность, не универсальность душ пред Богом. – Он за личностность этих переживаний. Он рисует именно свои фантазии. Субъективные.
Дворжак делает такой вывод из того, например, что в изображении на первой гравюре

Видение семи светильников (Откр. 1,12-3,22)
изображён сам пророк, автор “Апокалипсиса”:
“Действие происходит где-то в заоблачной выси: на причудливых облаках стоят светильники и среди них возникает радуга с восседающей на ней фигурой Первого и Последнего, перед которым преклонил колени и сам пророк; таким образом, это — видение не Иоанна, но самого художника” (С. 230).
Вполне естественно считать, что и все остальные 14 гравюр иллюстрируют тоже видения “самого художника”.
А как же быть с 13-й гравюрой: “в нем мы можем предположить самого Дюрера”?
Я думаю, что Дворжака там занесло. Вот автопортрет Дюрера тех лет.

Автопортрет. 1498.
Разве этот безбородый молодой человек с бровями вразлёт похож на того бородатого дядьку с птичьим носом и бровями домиком?
Есть и другие доказательства упора в “Апокалипсисе” на личность автора.
Но тут возникает принципиальное затруднение касательно того, что надо понимать под гармонией. Кроме упомянутого в самом начале сверхобщего подозрения относительно парно-враждебных современников-идеалов искусства у меня есть ещё подозрение об исторической взаимопревращаемости типов идеалов (гармонический превращается в идеал трагического героизма, последний – при несгибаемости автора от внешних обстоятельств – превращается в идеал экстремистского типа, при сгибаемости – в идеал соединения несоединимого и т.д.). И всё это хорошо иллюстрируется движением по синусоиде с вылетами в экстремы на перегибах. Так вот за исходное – гармонического типа идеал – было принято в качестве исторической конкретизации искусство Высокого Возрождения (слияние телесного с духовным), иллюстрируемое на Синусоиде идеалов точкой на середине синусоиды (при этом время, считаем, течёт слева направо). И тогда предшествующий большой стиль, готика, оказывается на верхнем перегибе синусоиды, перед нижним перегибом, где Раннее Возрождение. То есть готика есть некая успокоенность после героичности (романского искусства воинствующей ценности потустороннего мира).
Так вот эта некая успокоенность готики в словах Дворжака звучит как идеал гармонического типа:
“Жизнь обрела новую собственную ценность как место действия совершенно достойной работы, природа — новое значение как свидетельство божественного всемогущества и мудрости” (С. 67).
“…эти постройки [готические соборы], совместный труд поколений, народов, всего христианского мира возникли как символ царства божия на земле и как выражение идей, что прямо, перед глазами вели человечество через очищение от земного в высшее бытие” (С. 69).
В одном из предложений слово “гармония” даже и применено:
“…контраст их [идеализма и натурализма] не был непреодолимым. Стремление заменить его гармоническим единством превращалось мало-помалу не только в третий фактор стилистического развития средневековых живописи и скульптуры, но и сделалось в конце концов самой важной проблемой, решение которой, в той мере, в какой оно было достижимо, следует отнести к основным завоеваниям готики” (С. 91).
Получается накладка. Гармония ж должна б иллюстрироваться серединой синусоиды, коль скоро в ней гармония выражена, а в моей схеме готика на верхнем перегибе.
Это получилось потому, что схема строилась, базируясь на Возрождение. Влияние же Возрождения на всё дальнейшее искусство было определяющим. И повторяемость в веках больших стилей (типов идеала с гармоническим типом посредине межу экстремами) отлично подтверждалась (см. хоть третий абзац данной статьи).
И вдруг эта гармония готики по Дворжаку…

Скульптура Христа на Королевской двери Шартрского собора. 1150.
Ну воплощённая ж Вечность! Надмирность… и в то же время Такой знает же все-все-все твои несчастья!…
Мурашки по коже бегут от взгляда на это лицо. Атеисты, представьте на секунду, что Бог таки есть…
А как тогда чувствовали верующие?
“…фундаментальное примирение между надчувственным толкованием жизни и относительным признанием жизни…” (С. 68).
И сделано как? – “…ограничением изобразительных приемов” (С. 83).
Это как-то лучше чувствуешь тут.

Короли и королевы на Королевской двери. 1150.
Неестественно удлинённые фигуры. Какие-то не от мира сего лица. На том свете, наверно. Убедились в правоте веры. Чем-то одинаковые лица. Из-за “упрощённости” “изображение как будто приближается к давно минувшим художественным периодам…” (С. 83). Но лишь как будто. Ибо есть выражение лиц. Центральный - с экзальтированным взглядом. Правый - чем-то похож на всё знающего Христа. Левая - умиротворённа… С персонажами что-то случилось неземное там, на том свете.
Ужас, что трансцедентность может впрямую быть изображена!
И ведь как рано! 1150 год.
Или наоборот: через столько веков после античности, которая ж тоже доходила до психологизма в портретной скульптуре!
Нет, “не было совсем потеряно… [античное] внимание к органическому построению тел, к единству фигуры, к ее естественным пропорциям, членениям и окраске [к положениям] объектов в пространстве” (С. 84).
И ведь и это “не было совсем потеряно”, и это ограничение “изобразительных приемов” распространено ж было среди массы камнерезчиков. Массы, ибо каменных королей и святых в Шартрском соборе и в других соборах – уйма. И все выполнены – мистика какая-то – как-то одинаково. Словно одним человеком. Из-за того и имён авторов этих произведений не сохранилось. И ведь это были не умеющие читать люди. Они не вдохновлялись книгами богословов, что-то там писавших, да, про “…фундаментальное примирение между надчувственным толкованием жизни и относительным признанием жизни…” Никто их не учил, что “реальная [именно реальная] форма должна была быть наделена такими качествами, которые ставят перед глазами зрителя субстанцию божественного” (С. 76).
Не могу не отвлечься на то, как я нынче ополчаюсь на произведение прикладного искусства, ополчаюсь уже за то, что оно позволяет цитировать (литературное, или указать пальцем – изобразительное) то, что хотел сказать автор. Легко, мол, постигать. Скучно. Мелко. Подумаешь, мол, призвано усилить какое-то совершенно определённое чувство, известное до того, как произведение было создано. Это ж не чета, мол, не “в лоб” выражению подсознательного, чем занимается произведение идеологического искусства.
Еле-еле, в самое последнее время, я стал терпимее и согласен не отказать в художественности произведению, если автор в нём позволил себе напрямую – насколько сумел осознать – выразить то, что им двигало при создании этого произведения. Еле-еле.
А тут, с готикой, меня, вот, восхищает это прикладное (низменное ж) усиление благодати (и даже некое порождение её у атеиста, казалось бы, неспособного испытать благодать).
Поразительно.
Можно понять хоть того же Дворжака, не делающего никакого различия между прикладным и идеологическим искусством, между выражающим заранее известное и выражающим подсознательное, как бы невыразимое.
А я ж предлагал даже отдельные музеи создавать: для сознательного, так сказать, искусства – свои музеи, для подсознательного – свои. И музеями околоискусства предлагал назвать первые… – До чего довело это лобовое и незагадочное polit-art.
Но вернёмся к Дюреру.
Понятно, что он, будучи немцем, не мог забыть о когдатошнем торжестве готики, напрямую воплощавшей переживание благодати.
Но понятно, что, будучи человеком своего времени, он не мог смириться и с готическим требованием, что “нормы изображения природы… выше, чем сама природа” (С. 85-86).
Он выход из противоречия нашёл в выражении своего, субъективного видения религиозности. Ведь Христос готики был в общем чем-то одинаков в любых изображениях.

Иисус. Реймсский собор. 1211 - 1516.
А такого Бога, какого увидел в своей фантазии Дюрер, больше никто не изобразил.

Гневный Бог. Возмущённый тем, до какого состояния довёл веру развратный Рим эпохи Возрождения под флагом гуманизма.
Повторяю, до потоков крови за настоящую веру оставалась пара-тройка десятилетий. Наступила эпоха Позднего Возрождения с его идеалом трагического героизма, с его деятелями типа воинствующих оптимистов.
*
Сейчас тоже наступило время беспредела и вседозволенности. Но можем ли мы допустить себя дойти до крайности в своём справедливом возмущении положением дел?
21 ноября 2012 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/130.html#130
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |