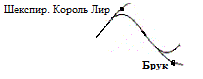
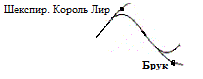
С. Воложин
Шекспир и Брук. Король Лир
Художественный смысл
|
Из-за отвращения к обычной жизни мыслима любовь к… смерти. И, чтоб что-то такое померещилось зрителю, отрицающему коллаборационизм, понадобилось изобразить как обычное дело – ослепление Глостера. |
Кто он, Питер Брук?
Что делать со скукой?
Почему мне и нравится ницшеанство – оно взрывает скуку.
А ведь его исповедующие художники, похоже, осознают своё ницшеанство. И где тогда художественность, если она должна происходить из подсознания?
Вот Питер Брук (не помню, откуда, но мне мерещится, что он – ницшеанец):
"Брук не впервые высказывал свои взгляды на театр” (http://e-libra.ru/read/221187-pustoe-prostranstvo.html).
Впрочем, вот он, парадокс: Брук ставит “Лира” "с позиций “морального нейтралитета”” (Там же), а как это возможно, если “Лир” - произведение маньериста Шекспира, то есть автора, полярно противоположного Ницше.
Я вполне осознаю, что для широкого читателя, слова “ницшеанство” и “маньерист” - глубоко неизвестные слова, если даже он их и слышал когда-то в жизни. Но я начал писать, чтоб разрядиться. Чтоб удовлетворить себя, а не читателя.
Так если у меня что-то станет выходить, я о вас, широкий читатель, позабочусь. От вас только потребуется перечитать эту вещь ещё раз.
Впрочем, два слова сразу скажу.
И ницшеанство и маньеризм – явления экстремистские, считающие Эту действительность – ужасной. Настолько ужасной, что выход – один (для обоих): вне Этого мира. Взять себе, если можно так выразиться, такой, вне Этого мира, идеал. Только для маньеризма это сверхбудущее, пусть и мистическое, но объективное. Объективное – в смысле благое и осуществящееся вне внутреннего мира автора когда-то. Т.е. это понятие как-то шире, чем тот свет христианства и царство Божие на небе. А для ницшеанства – иномирие, не могущее осуществиться никогда (вне времени, вне пространства, над Добром и Злом), но… мыслимое, тем не менее. И позволяющее пока жить, ради красоты или искусства, чем-то родственных с Вечностью и т.п. нежитью.
То есть похожесть произведений и ницшеанца, и маньериста имеет что-то общее в описании ужаснейшей действительности. Только, если маньерист ненавидит её горячо, то ницшеанец – холодно, "с позиций “морального нейтралитета””. И эта последняя позиция “нет” требует такого “да”, которое не способен дать маньеристский сверхисторический всё-таки оптимизм.
Чтоб заземлить последнее утверждение, надо сказать, каких зрителей для потрясений выбрал Питер Брук – жителей Восточной Европы, т.е. тех, среди которых нашлось немало коллаборационистов, служивших гитлеровцам во время оккупации их стран. Они были ещё живы в 70-х годах. И не были никем наказаны.
"Брук ставил себе целью не просто показать мир холодный и страшный. Он желал изобразить его таковым со всей бескомпромиссностью, чтобы столь же бескомпромиссно прозвучала мысль о том, как страшен мир, когда он бездуховен” (Там же).
Тут надо уточнить.
Фашисты не были бездуховными. Они были ницшеанцами. И, самые принципиальные, любили смерть. Шли на неё. И ненавидели мещан, смерти боявшихся. И коллаборационистами были как раз мещане, для которых важна только своя жизнь. И ради неё они шли на коллаборационизм. И для ницшеанца Питера Брука это могло выглядеть, как бездуховность. Ненавистная. Питер Брук ставил спектакли перед людьми, мещанами, самых ярких представителей которых он, режиссёр, ненавидел. И – зрителей тем потрясал.
"В бруковском “Лире” нет правых и виноватых. Здесь всякий прав — со своей точки зрения — и всякий виноват, ибо и он принес в мир свою долю зла” (Там же).
Как у Чехова. Разве не виноват маленький человек уже тем, что он согласился прожить маленьким человеком?!. – Виноват!
Меня последнее время мучает вопрос, как определить что в художественном произведении от подсознания. В поисках ответа на этот вопрос я наткнулся на такое соображение:
"Идеи, которые переходят из подсознания в сознание, не всегда правильны, так как в подсознании нет логических критериев истины” (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Borev/_06.php).
Соображение, по-моему, верное. Потому что вдохновение – это изменённое психическое состояние: с моментами отключения сознания. Для отключения сознанию бросается кость, что имеется ж дело с условностью, а не с жизнью. И… сознание “соглашается” прикрыть глаза.
А если условность получается удивительная, то, не исключено, что это получилось как раз из-за отпущенного на волю сознанием подсознательного. Скажем, какая-то безумная чувствительность короля Лира у Шекспира. Ну смотрите, разве нормальный человек станет ТАК реагировать на отказ дочери не трепать языком о своей любви к отцу.
|
Корделия Вы дали жизнь мне, добрый государь, Растили и любили. В благодарность Я тем же вам плачу: люблю вас, чту И слушаюсь. На что супруги сестрам, Когда они вас любят одного? Наверное, когда я выйду замуж, Часть нежности, заботы и любви Я мужу передам. Я в брак не стану Вступать, как сестры, чтоб любить отца. Лир Ты говоришь от сердца? Корделия Да, милорд. Лир Так молода - и так черства душой? Корделия Так молода, милорд, и прямодушна. Лир Вот и бери ты эту прямоту В приданое. Священным светом солнца, И тайнами Гекаты, тьмой ночной, И звездами, благодаря которым Родимся мы и жить перестаем, Клянусь, что всенародно отрекаюсь От близости, отеческих забот И кровного родства с тобой. Отныне Ты мне навек чужая. Грубый скиф Или дикарь, который пожирает Свое потомство, будет мне милей, Чем ты, былая дочь. |
Или как Лир (да и его слуга) взбесился от недостаточной внимательности в имении другой дочери (пусть даже невнимательность и имеет место быть).
|
Лир …Пойдите, передайте моей дочери, что я хочу говорить с нею. Уходит слуга Пойдите позовите сюда моего шута. Уходит слуга. Входит Освальд А вы, сэр, вы, сэр? Подите-ка сюда, сэр. Кто я такой, сэр? Освальд Отец миледи. Лир Отец миледи? Раб милорда, вы - собачий ублюдок, вы - холуй, вы пащенок! Освальд Ничего подобного, милорд, извините. Лир Вы меряетесь со мной взглядами? Вы - негодяй! (Бьет его.) Освальд Меня нельзя бить, милорд. Кент А дать ногой, как по мячу? (Сбивает его с ног.) Лир Спасибо, приятель. Твоя служба мне по вкусу. Кент Ну, сэр, на ноги и вон. Я поставлю вас на место. Вон! Вон! Если хотите еще раз пол собой измерить, оставайтесь. Ну, ступайте! Поняли? (Выталкивает Освальда.) |
Или вот реакция Лира на представляющиеся справедливыми нарекания дочери (пусть она и перегибает).
|
Гонерилья Недоуменье ваше, сэр, похоже На ваши выходки. Я вас прошу Понять как следует мои слова. Вы - стары и почтенны, будьте ж мудры. При вас еще сто рыцарей и сквайров, Таких распущенных и диких малых, Что этот двор беспутством превратили В кабак какой-то; наш почтенный замок От их эпикурейства стал похож На дом публичный. Этот срам немедля Должно пресечь. И вот я вас прошу, - Хоть дело и без просьб могла бы сделать - Уменьшить хоть немного вашу свиту, Оставить только, что необходимо, Притом людей приличных вашим летам, Умеющих держать себя. Лир Проклятье! Седлать коней! Созвать сейчас же свиту! Бесстыдный выродок! Смущать не стану. У нас другая дочка есть. |
Я, впрочем, могу Шекспира понять.
Наступал капитализм (только слова этого тогда ещё не знали) и отступал феодализм. Феодализм держался в большой мере на вассальной зависимости, которая хоть и обусловливалась феодальной экономикой, но и на идее чести и подчинения держался строй не меньше. С капитализмом было иначе – выгода была превыше всего. Новый строй был, так сказать, материалистичнее старого. А старый – идеалистичнее, и – более нравился Шекспиру. И, остро чуя ослабление идеализма, Шекспир, - художник же, всё творит через наоборот, - делает сторонника старого строя, Лира и его слуг, наоборот, здорово неправыми. Пусть-де и при этом всё-таки торжествует идеализм. Испытывая такой “изм”, Шекспир нарочно ставит его в невыгодное положение. Ибо и сама жизнь демонстрирует как раз невыгоду старых отношений. Крайность отрицательного отношения нового к старому как раз и заставляют Шекспира вгонять в крайность же и Лира. Нормальности-де в этом никакой нет.
И скоро естественная на выходки Лира реакция сестёр становится тоже экстремальной. Голодный Лир оказывается (пусть и путём больше собственного говорения) практически всё же изгнанным обеими дочерьми в бурю и дождь в поле.
|
Гонерилья Но зачем Вам двадцать пять и даже десять, пять Своих людей там, где вам дважды столько Служить готовы? Регана Тут один не нужен. Лир … - Нет, ведьмы, Я отомщу обеим вам жестоко. Мир содрогнется!.. Я еще не знаю, Что сделаю, но сделаю такое, Что страшно станет. Думаете, плачу? Нет, не заплачу: Причин для слез немало, но пусть сердце В груди на части разобьется раньше, Чем я заплачу. - Шут, я помешаюсь! Уходят Лир, Глостер, Кент и шут. Корнуол Уйти и нам! Близка гроза. Слышна буря Регана Дом невелик, и старику со свитой Не уместиться в нем. Гонерилья Сам виноват. Он сам бежал покоя, - Пусть платится за глупость. |
Шекспиру, симпатизирующему старому строю, представлялось совершено аморальным ТАКОЕ неуважение. Для этого, - опять через наоборот, - он организует так, что кому-то (новым людям) мыслимо думать, что всё нормально. Человек человеку – волк. Зло в мире – обычное дело. Но делал так Шекспир, будучи как бы не в себе, будучи в трансе вдохновения морального осуждения, причём такого осуждения, которое уверено, если и не в скором, если и в никаком историческом благом будущем, то хотя бы в сверхисторическом.
Мыслимая нормальность безобразия у Шекспира – как лёгкая тень на ненормальности, отвергаемой тем более страстно, долго казалась признаком реализма автора: сразу нельзя было сказать, за кого Шекспир*. Ну не то, чтоб так уж и нельзя (всё время издевающийся над королём шут подсказывает нам – через наоборот, опять же – кого надо жалеть, а на кого негодовать; ну и сторонники короля подсказывают зрителю).
|
Глостер Увы, увы, Эдмунд, не нравится мне это бесчеловечное обращение. |
Но всё-таки сколько-то и нельзя поначалу легко разобрать, кому сострадать (пока Лир не сошёл с ума).
Но эта лёгкая мыслимая нормальность Зла, оказалась через века способна вдохновить на постановку, принципиально отличающуюся от маньеризма, в стиле которого и написал Шекспир свою трагедию.
Можно ли судить о спектакле, которого ты не видел? – Можно, если кто-то опишет деталь этого спектакля, причём такую, чтоб она навела на всегда скрытый художественный смысл постановки, или, иными словами, чтоб она навела на подсознательный идеал режиссёра. Именно режиссёра, а не автора пьесы. Причём на подсознательность идеала режиссёра (а это необходимое условие художественности с некоторой точки зрения) может указать то, что режиссёр выбрал для постановки ту пьесу, которую привыкли считать выразительницей идеала писателя, который прямо противоположен идеалу режиссёра. – Если на пути наибольшего сопротивления работает режиссёр, тогда это свидетельство подсознательного идеала. В смысле – сознание режиссёра на такой абсурд не толкнуло бы.
Вот и берём “Короля Лира” Шекспира в постановке Питера Брука. Берём сцену ослепления Глостера.
У Шекспира как? Побочный сын Глостера, чтоб захватить себе отцовское состояние оклеветал прямого наследника и донёс на самого Глостера о пособничестве того Лиру и французскому королю, желающему отомстить за Лира. Глостера ослепляют за измену. Слуги Глостера смущены. Один за него даже дрался и ранил Корнуола, но убит.
|
Уходит Корнуол, поддерживаемый Реганой. Второй слуга Я о грехах заботиться не стану, Когда он будет счастлив. Третий слуга Если ей Удастся умереть обычной смертью, Не будет женщин, - выродки одни. Второй слуга Пойдем за старым графом и бедламца В поводыри возьмем, другое дело Им трудно исполнять. Третий слуга Я принесу белков и полотна Ему на раны. Помогите, боги! Уходят в разные стороны. |
Как бы хор как бы подсказывает, кому сочувствовать. Забыл Шекспир быть реалистом и нейтральным. Сердце его кипит на несправедливость. И она – ТАКАЯ, что справедливость мыслится только, повторяю, в сверхбудущем.
А что сделал Питер Брук?
"Сцена ослепления Глостера стала ключевой в спектакле. То страшное, что совершалась за линией рампы, было чем-то весьма обычным для участников преступления, чем-то определяемым стертыми словами “практическая деятельность”. Но оно не переставало от этого быть страшным для тех, кто сидел в зале. Даже становилось еще страшнее. Это было повседневным, значит, повторяемым. И происходило уже не на подмостках — месте, для всякого рода представлений специально отведенном. Зажигался свет, как во время антракта, а на сцене, теперь уже не отгороженной от темного зала, спокойно отпихнув в сторону слепого старика, слуги принимались таскать какие-то мешки, что-то прибирать... Работа, не более...” (Там же).
Что это означает?
Скуку.
Всего лишь скуку!
Расчёт – на зрителей. А те – жители Восточной Европы, недавно бывшей оккупированной фашистской Германией. И жители те с оккупантами как-то жили, уживались. Какими бы ужасными оккупанты ни были.
Тут впору вспомнить то, что слышал я своими ушами.
Нет. Сначала – то, что собирался делать своими руками.
Как-то раз на заводе, где я работал, собрались избавиться от гадящих на станки и на людей голубей в цехах. Стали набирать желающих пострелять их из мелкокалиберной винтовки в выходной день. Я вызвался, но меня, не помню почему, не взяли.
А когда я перешёл из этого завода работать в НИИ, один пожилой сослуживец рассказал, как собирали в Каунасе желающих пострелять евреев, когда пришли немцы. Собирали – активисты. И отказывать им люди не хотели, и принимать предложение не хотелось. Колебались. Соглашалась – молодёжь.
А был у моей мамы двоюродный брат, Саша Бобович, десяти, кажется, лет. И он, и мама жили в городе Ромны, на Украине. Но мой отец вывез семью в эвакуацию, а семья того Саши осталась. Когда евреев города немцы собрали и повели на расстрел, Саша сбежал. И прибежал к родной тёте, бывшей замужем за украинцем. Из-за чего её никто немцам не выдавал. А про Сашу не знал никто. Полгода он прятался. А зимой ему надоело раз, и он вышел на улицу покататься на коньках. Проходящим мимо немецким солдатам кто-то указал, что это еврей. И немцы тут же на улице его застрелили. Когда же с войны вернулся родной брат Саши, Рува, он захотел подать в суд на выдавшего. (Городок же маленький; все про всех всё знают; моя мама тоже потому всю эту историю узнала, когда мы вернулись из эвакуации.) Но Руву куда-то вызвали и настоятельно попросили не подавать в суд. И он согласился, но маме моей рассказал. Так и я узнал.
И ещё один рассказ мамы помню. Мы вернулись в город из эвакуации ещё в 44-м году. Раз она пришла домой расстроенная. – Что такое? – Узнали её в городе какие-то две женщины, и довольно громко одна другой сказала, кивнув на маму: “Дывысь, ще нэ всих жыдив повбывалы”.
Вот на ярость к таким, мещанским, людям рассчитывал Питер Брук.
Советские люди сотрудничали с фашистами. Обычные советские люди. Надежда человечества, раз этим привелось строить коммунизм.
Ясно, что иному можно было впасть в состояние предвзрыва от скуки обыденности Зла в Этом мире и от полного разочарования в христианском спасении Этого мира в потустороннем бестелесном царстве Божием на том свете. – Только какое-то иномирие могло стать идеалом ТАК разочаровавшимся, но трезвым-претрезвым, чтоб не верить ни в какое благое сверхбудущее. Оно недостижимо, это иномирие, потому что оно только мыслимо (если мыслимо) – как некая метафизическая Вечность без времени, причин и следствий. Мыслимо – из-за отвращения к обычной жизни. Из-за того мыслима любовь к… смерти.
И, чтоб что-то такое померещилось зрителю, отрицающему коллаборационизм, понадобилось изобразить как обычное дело** – ослепление Глостера.
"В “Лире” Бруку удалось заговорить о проблемах того общества, которое он знает” (http://e-libra.ru/read/221187-pustoe-prostranstvo.html).
3 июня 2016 г.
Натания. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
http://www.pereplet.ru/volozhin/379.html#379*
- Но после-то ослепления Глостера, зрителю ж ясно, за кого Шекспир, и за кого быть ему, зрителю. Никаких же безобразий положительные, так сказать, герои больше ведь не делают, а безобразничают одни отрицательные, скажем так, герои. Что: надо отнять за то у Шекспира звание художника?- Можно и оставить. Он же не даёт Лиру поторжествовать победу сил, что за него. Шекспир же убивает Лира (тот-де не выдерживает горя, что убита Корделия). То есть Шекспир тем хотел сказать, что свирепствование сил Зла, будучи сегодня даже усмирённым силами Добра, всё же оказываются в метафизическом завтра победителями, раз сегодня Лир умер сам. То есть победа Добра когда может быть? – Только далеко-далеко после Завтра, т.е. в сверхбудущем. Что нецитируемо. Значит, Шекспир остаётся в ранге художника.
Другое дело, что мне не известно, как с этим идеалом боролся после сцены ослепления Питер Брук…
4.06.2016
**
- А почему вы не коснулись других элементов спектакля Брука, упомянутые в той же статье, что вы цитировали: “Декораций и реквизита почти не было. Ровный свет, негромкие голоса, взамен задника — куски ржавого железа, начинавшие слабо вибрировать, когда были произнесены последние слова трагедии”? – Не потому ли, что они отчуждали зрителей-почти-коллаборантов-зверского-гитлеризма от зверства на сцене, а не приобщали? Вон, и Козинцев пишет (там же, где вы недоцитировали): “…из театра я ушел совсем не подавленный. Пожалуй, иное чувство возникло у меня в душе. В постановке, утверждавшей безнадежность, торжествовала надежда”.- Козинцев, мир его праху, ошибся.
Последние слова трагедии – наступление нового, справедливого мира (я их подчеркнул):
"Лир
Взгляните же, взгляните...
Умирает
Эдгар
Он без чувств!
Кент
Разбейся, сердце!
Эдгар
Государь, очнитесь.
Кент
Не мучь души. Пускай она отходит!
Лишь враг старался б удержать его
Для пыток жизни.
Эдгар
Он и вправду умер.
Кент
Дивиться можно бы, как долго жил он
Наперекор природе.
Альбани
Отсюда унести их. Первый долг наш –
Скорбь общая.
(Кенту и Эдгару)
Обоим вам, друзья,
Страны поддержку поручаю я.
Кент
Уехать вскоре должен я от вас.
Я слышу короля призывный глас.
Альбани
Склонимся мы под тяжестью судьбы,
Не что хотим, сказав, а что должны.
Старейший - претерпел; кто в цвете лет,
Ни лет таких не будет знать, ни бед.
Уходят все под похоронный марш".
Так вот из-за такого наивного оптимизма персонажа у Шекспира, держащего сочувственный (из-за похоронного марша) нейтралитет, получался сверхисторический оптимизм.
А у Брука тут его хвалёного "морального нейтралитета” как раз и нет. Ибо вместо сочувственного похоронного марша есть что? Есть "куски ржавого железа, начинавшие слабо вибрировать”. Это иномирие возражает: обречён любой оптимизм – и наивный, и исторический, и сверхисторический.
А не взял я это для доказательства своей версии просто потому, что не додумался тогда. Известно же, что лучший способ открыть истину – усомниться в противоположном ей.
10.05.2019.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |