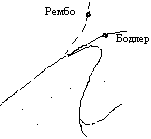
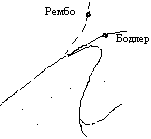
С. Воложин
Бодлер. Рембо. Высоцкий.
Художественный смысл стихотворений.
| Противоречивые элементы в стихотворении - еще не гарантия рождения ими в душе у нас противочувствий и катарсиса, т.е. – не гарантия невылета произведения в околоискусство. |
С. Воложин
Размышления над книгой Самария Великовского
“Умозрения и словесность. Очерки французской культуры”
Бодлер
Читатель, вам приходилось понимать “не в лоб” стихи поэта?
Предлагаю нырнуть в бодлеровский текст, следуя за Великовским, и попробовать вынырнуть там же, где выныривает Великовский. Но выныривает он далеко от текста. А мы попробуем – не далеко.
Итак, Великовский ныряет:
“…
подчеркнутые прописной буквой аллегорические отвлеченности в кружении тщательно прорисованных, тонко подсвеченных и подцвеченных деталей…”ХСI. Задумчивость
Остынь, моя Печаль, сдержи больной порыв.
Ты Вечера ждала. Он сходит понемногу
И, тенью тихою столицу осенив,
Одним дарует мир, другим несет тревогу.
В тот миг, когда толпа развратная идет
Вкушать раскаянье под плетью наслажденья,
Пускай, моя Печаль, рука твоя ведет
Меня в задумчивый приют уединенья,
Подальше от людей. С померкших облаков
Я вижу образы утраченных годов,
Всплывает над рекой богиня Сожаленья,
Отравленный Закат под аркою горит,
И темным саваном с Востока уж летит
Безгорестная Ночь, предвестница Забвенья.
Или – тот вариант, что процитировал сам Великовский:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь сумрака? Уж вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим – ярмо забот
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты видишь – с высоты, скользя под облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь,
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный…
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С востока волоча свой саван погребальный?
“Раздумье”. Перевод М. Донског
о“
Аллегорические отвлеченности” это Ночь, Солнце, Надежды, Сожаленье, Года, Терпенье, Скорбь у Донского, Забвенье, Ночь, Восток, Закат, Сожаленье, Вечер, Печаль у Андреевского. Все с большой буквы. Кружение “тщательно прорисованных, тонко подсвеченных и подцвеченных деталей” это деяние невыделенного у Донского прописной буквой вечера: “Он город исподволь окутывает тенью”. Ну действительно. Бродишь на закате, оглядываешься на восток раз, через минуту – другой, и замечаешь плавность погружения города во тьму. Если идешь, а не бродишь, т. е. если о чем-то обыденном думаешь, занят – не замечаешь. Вдруг оказывается, что вокруг уже темнота. Никакой постепенности. У Бодлера – не так. И по Андреевскому у Бодлера так же, как у Донского – внимательно лирическое “я” к Вечеру: “Он сходит понемногу … тенью тихою столицу осенив”. И это – НЕОБЫДЕННОЕ замечено.И это я разжевываю. Потому разжевываю, что к очень неочевидному выныривает Самарий Великовский, разжевыванием не занимаясь. Вы еще увидите.
Луначарский,- тоже не разжевывая,- кажется убедительнее (еще не увиденного вами) ви`дения Великовского. Но Луначарский читает “в лоб” и потому корит – декадента - за полумысли и четверти чувств. И правда. Ну что за масштаб! “Исподволь”, “понемногу”
…Но Бодлер-то – настаивал на грандиозности. “Вечер”
, “Ночь”, “Закат” - с большой буквы у него написаны. Грандиозность… тончайшего.И вот Великовский выныривает: “заслуги Бодлера… в горделиво-дерзком завете придать трудам художника достоинство такой духовной деятельности, которой по плечу домогательства исключительные, прямо-таки сакрально-магические. Бодлер звал своих собратьев по перу “колдовски” чародействовать в разгар просвещенно-здравомыслящей цивилизации – быть устроителями “празднеств мозга” для “природных существ, изгнанных в пределы несовершенного и жаждущих причаститься безотлагательно на самой здешней земле блаженств возвращенного рая””.
Надо счесть, что сталкивание таких противоположностей, как тончайшее, мельчайшее, чьи детали тщательно прорисованы, – с одной стороны, с отвлеченностями, возвеличенными прописной буквой, – со стороны другой, - надо счесть, что это сталкивание противоречий рождает катарсис, который не процитируешь: чародейство празднества мозга - в данном стихотворении.
Великий Выготский такое столкновение и катарсис считал вечным, психологическим признаком художественности.
Но что тут нового спрашивается, чем это отличается от романтизма? Лирическое “я” Бодлера бежит от мерзкой действительности в себя, во внутренний мир: “моя Печаль”. Она “ведет меня” и ведет совсем не туда, куда идет “толпа развратная”, а “подальше от людей”. Это - у Андреевского. У Донского лирический герой тоже один. “Подруга”, к которой обращается лирическое “я”, это “Скорбь моя”. – Итак – эгоизм, нравственный, если одним словом, эквивалент романтизма. Идейного отличия между Бодлером и романтизмом, выходит, нет.
А Великовский настаивает, что есть.
Он, правда, сперва говорит не об идейном отличии, а о формальном, о неприязни “
к тем небрежностям отделки, что снисходительно допускались… романтиками в погоне за раскованностью своих исповедей”. Однако вскоре можно наткнуться у Великовского и на отличие идейное. “Источник дурного, чадного, порочного помещался ими [романтиками] где-то вовне – в скверных обстоятельствах, убожестве обстановки, злокозненности судеб”. И я добавлю. Раз зло – вовне и сковывает, так то, что внутри у романтика, раскованное, не есть зло уже по одному тому, что расковано. Оно не считается со внешним. Для него не существует внешнего. Романтик сотворит зло, с точки зрения внешнего, и не сочтет себя виноватым, ибо романтик освободил себя. Что он ни творит, все то – добро в его субъективной системе координат. Свобода!Совсем не так у Бодлера!
Куда идет “толпа развратная”
? – “Вкушать раскаянье под плетью наслажденья”.Если парижская толпа вечером идет в бордель, гонимая плетью наслажденья, то плеть эта – не внешнее зло, а внутреннее. Похоть. И это вовсе не толпа свободных от нравственности романтиков-эгоистов. Нет! Толпа похоть считает злом в себе. Не как романтики. Толпа раскаивается. Не как романтики. Толпа
развратная, потому что ничего не может с собой поделать. Разрывается. И зло, и добро находится В НЕЙ. Она состоит из “природных существ, изгнанных в пределы несовершенного” (как я уже цитировал).И душа лирического “я” в стихотворении Бодлера вовсе не нравственностью отличается от толпы, а старанием быть “мудрой”. И тут только невольно поверишь вроде бы голословному (потому что не опирается на каждом шагу на произведение) Великовскому, вживающемуся в ту поэзию словно в “
“религию” своего [того поэта] труда как личного [того поэта] душеспасения. И одновременно спасения человечества через Красоту, она же Истина – и непременно с большой буквы”.То есть, вы понимаете, что описано в “Раздумье”? – Вовсе не бегство от людей, а раздумье, как бы себе и им помочь в своей и их раздвоенности. Потому и убежал “я”, чтоб подумать. Как помочь в непреодолимой раздвоенности!
Воистину герой будет, если придумает. Или – чародей. Или – богоравный. Как Христос: взял на себя грехи всех людей, настоящих, бывших и будущих, искупил их своей, Бога-Сына земного, смертью, и – обеспечил тем душ их спасение. – Гениально захотел Бодлер!
И выполнил! Что еще важнее.
Чем выполнил?
А вот явив на свет такое чародейство, как это стихотворение.
Вот что значит не читать художественное произведение “в лоб”. “В лоб” получалось, что Бодлер декадент, родоначальник упадочного искусства, что он лишился всех и всяческих идеалов. А не “в лоб” - что у него был идеал: “
не будучи истово верующим, искал, однако, мыслительный ключ… в христианском философствовании о “первородном грехе”. На такой мировоззренческой площадке и возводится Бодлером здание “сверхприродной”, по его словам, эстетики с надстраивающей ее, в свою очередь, “магической” поэтикой”. Читая “в лоб”, часть его произведений была признана безнравственными, по суду запрещены они были к публикации. (Приговор отменен только в 1947 году, через 90 лет! В демократической-то Франции! Даже в тоталитарном СССР Луначарский относился лучше: “бегство в область фантастики, бегство в область метафизики и мистики - это были, так сказать, колоссальные пассивно-революционные силы”) А не “в лоб” читая, у Бодлера, получается, – “героизм времени упадка”.Великовский, не ведая того, проиллюстрировал мою схему расщепления искусства на три ветви во времена смуты, в эпохи после краха идей революции. Конформистская ветвь, принявшая контрреволюционное новое как прогресс, и две нонконформистские, экстремистские: коллективистская и эгоистическая. Обе ветви не принимают этот прогресс.
Во второй половине
XIX века во Франции, в Западной Европе первой, из перечисленных, ветвью был академический реализм, спокойное искусство класса-победителя, мещанства, мелкой буржуазии. Она хоть и потерпела политическое поражение во всех революциях, но ее идеал равенства всех перед лицом конкуренции в конце концов возобладал. Великовский называет тот идеал республиканской демократией. Другой ветвью было то, что вылилось в конечном итоге в символизм. Третьей ветвью – опять возродившийся романтизм.Должна б рассматриваться и четвертая ветвь – вылет в околоискусство, питаемое (иссушаемое!) разочарованием, перешедшим в хроническое отсутствие идеалов. Должно б было быть этой четвертой ветвью - декадентство. И, начиная вот сейчас работать над Бодлером, я думал было (прочитав у Великовского слова: “
восхищение значительностью гнетущего”), я думал было, что Бодлер-то и будет декадентом. Но… Оказалось, что он – с идеалом. А значит – не декадент.Ну, разве что иногда туда срывался. Но это не в счет.
А в конце
XX и начале XXI веков, после развала СССР и краха идеи коммунизма, перед нами очень похожая идейная ситуация. Особенно – в России. Особенно – касательно умонастроения ненависти ко всеобщему торгашескому делячеству, породившему полтора века назад ту крутую перестройку, “которая протекала в ладе и облике стихотворчества французов… как живопись… после Сезанна и музыка с Дебюсси”. Впрочем, не только Россия - весь мир охвачен ненавистью: движением антиглобализма, антикапитализма, антилиберализма.“
Сегодня мы находимся в такой исторической позиции, откуда легко распознать связи между теми явлениями, которые представлялись еще недавно несочетаемыми, взаимоисключающими. Логика мировоззренческой истории спрессовывает все прежние альтернативы либерализму в некую единую, почти хаотическую субстанцию, в странную политическую конфигурацию, которую мы видим в антиглобалистском движении, в Сиэтле, Праге и т.д. Этот антилиберальный синкретизм является живоносным источником некоего нового нарождающегося движения, движения за Историю против ее "конца". Это синдром рождения "нового социализма".Я убежден, что сейчас время хаотизировать представление о социализме, не запутать, но переплавить в общем мировоззренческом тигле все теории, идеи и мировоззрения, имеющие в себе хотя бы элементы альтернативности по отношению той реальности, которая одержала силовую и мировоззренческую, геополитическую и идеологическую победу в холодной войне. Нам сейчас нужно постмодернизировать социализм, внести в представление о нем экстравагантные, сбивающие с толку мотивы. Тогда хаос будет рождающим. Как говорил Ницше - "только тот, кто носит в своем сердце хаос, может родить танцующую звезду"
” (Александр Дугин http://www.iicas.org/articles/library/libr_rus_7_03_01ll.htm ).А аналогия: в веках повторяющаяся ненависть к царству денег – великая вещь. И я думаю, что ею я получил еще одно подтверждение, что грядет гуманитарная революция.
*
Но, может, слишком мизерно то основание, на котором я все тут построил: тонкость световых переходов и заглавная буква для Вечера? – Попробуем, что другое предлагает Великовский.
“
Мироздание, согласно Бодлеру, являет собой “дивный храм”… все краски, звуки, запахи… в конце концов суть лишь разные наречия одного “иероглифического” праязыка. Улавливая и облекая в слова позывные “вселенского подобия”… поэт… проникает сам и вводит за собой всех желающих за ним следовать в святая святых нерукотворного мирового “собора””.Это опять, по моему куцому мнению, некое квазихристианство, похожее на пращура обоих – аристотелевскую форму (по нынешнему словоупотреблению – суть), определяющую все чувственно воспринимаемое, низшее по отношению к себе, и потому менее ценное. Как в христианстве: “В начале было Слово…” Жизнь – тень и преходящесть, что не главное.
IV. Соответствия
Природа - строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания и звуки и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.
Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,
Как тело детское, высокий звук гобоя;
И есть торжественный, развратный аромат -
Слиянье ладана и амбры и бензоя:
В нем бесконечное доступно вдруг для нас,
В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!
Вполне в соответствии с дугинским хаосом, в преддверии гуманитарной революции плодятся на территории бывшего СССР всякие идеи у пройдох, пытающихся нагреть руки на естественной тяге людей к чему-то немеркантильному. Но пройдох легко почуять. Я год проходил в некий клуб, где клубились эти исчадия. Раскалывал их с полуслова. Но появись там такой, по Великовскому, Бодлер со своей верой, что Красота спасет мир, и со своим мерилом для Красоты – долей “
странного”, - я б его искренности поверил.Ну вдумайтесь, действительно, во второй куплет. Мало, что “едино” (нет! вы вдумайтесь!) “свет и ночи темнота”. Это единство выражено еще и переносом со зрительного в звуковое – “в один аккорд”. Но и этого мало. “Аккорд” не впрямую идет от источника к уху. Он “эхо”. Этого опять мало. Не прямое здесь эхо, а эхо второго порядка – “эхо отзвуков”. Вдумывайтесь дальше. Звук, который до вас, наконец, дошел – “неясный”. А ведь в основе единства-то еще и “благоухания”. В дополнение вся эта истонченность есть всего лишь сравнение – “Как…”. Что ж, собственно, с этим всем сравнивается? (Нет, вдумайтесь!) – Взгляд… “живых колонн”. – Понятно, откуда ноги растут через сто лет у сюрреалиста Сальвадора Дали? Естественно, что ощущать этот взгляд живых колонн может лишь “смущенный человек”. И все-таки не только смущение он с неотвратимостью переживет. Он же неким образом приобщился к!!! Самое начало – “строгий храм, где строй живых колонн” - непостижимо постигнуто концом: “сочетаются в гармонии согласной”. И последние три слова ж – тавтология. Троекратное усиление…
Впору дух перевести.
Не зря был период в моей жизни, когда я страстно завидовал верующим людям. Это ж в какой дивной вселенной они живут. Как дети - в сказке.
Не от хорошей жизни так воспаряют. И я позавидовал не от хорошей жизни: тогда умерла моя мать, и я был очень не прочь надеяться увидеть ее на том свете. Не от хорошей жизни и Бодлер так воспаряет:
... есть торжественный, развратный аромат -
Слиянье ладана и амбры и бензоя…
Бензой, сколько я понимаю, есть добавка к снадобьям сексуальной парфюмерии. Ну а ладан курят в церквах. – Перед нами опять трагическая двойственность человека. Первородный грех. Казалось бы, полный тупик. Разочарование должно б быть абсолютным. Идеала не должно б быть. Бодлер должен бы быть упадочником, декадентом. – Ан нет! Не сходя с места, нашел он идеал. Непостижимым трудом. Но – тут же! В этой жизни – жизнь Ту, горнюю. И – счастлив. И мы – за ним. Мы! Он коллективист. Не зря на заре своей жизни, в революцию 1848 года, он был на баррикадах.
Его последователи идеал искали и находили подальше, в сверхистории, в сверхбудущем. Но такова уж логика развития.
*
Вот. Это мы рассуждали на материале природы, в которую чаще убегали от действительности все же романтики. “
Культура романтиков за немногими исключениями… чуралась городских стен, разве что это был город старинный с его “дворами чудес”, пламенеющей готикой соборов, буйством карнавала; вслед за Руссо она норовила бежать на лоно природы, к берегам озер и морских лагун, в безлюдные горы, лесистые долины”. Бодлер, по Великовскому, в общем, не такой. Он достижением своего идеала считал “подыскать земную, рукотворную замену угасавшему, как мнилось, христианству, которая бы бралась удовлетворить ту же потребность и, однако, не выглядела ветхим предрассудком”. Бежать для этого от людей Бодлеру было не нужно. Наоборот. Он занялся раскопками ““чудесного” в самой что ни на есть заурядной городской повседневности”. И здесь он нашел искомое чудо, чудо “поэтической прозы, музыкальной без размера и ритма…”. Это у него воплотилось в стихотворениях в прозе.XII. Толпы
Не каждому дано окунуться в людское море; наслаждение толпой есть великое искусство, которым из всего рода человеческого владеют лишь те, кто способен опьяняться жизнью, кому еще с колыбели некий таинственный гений внушил любовь к маскарадам, отвращение к домоседству и страсть к путешествиям.
Многолюдие, одиночество - разные названия одного и того же для поэтов истинных и щедрых. Кто не умеет наполнять свое одиночество, не способен также быть один среди людской толпы…
И т. д. и т. д.
Так вот не согласитесь ли, что тут, несмотря на пафос “повседневности”, все же больше пафоса, чем повседневности? “Людское море” это скорее поэтично, чем прозаично. “Великое искусство” - это, пока необоснованное возвеличение, задает тон, высокий тон, а не повседневный. Масштаб “рода человеческого” тоже немаленький. “Опьяняться жизнью” - очень красно сказано. “С колыбели” - тоже поэтизм, “с детства” – было бы обыденнее. “Таинственный гений” - ого что. Множественное число слов “маскарадам” и “путешествиям” являет некое обобщение, тоже, в общем, чуждое повседневности, как и сами маскарады и путешествия. А “любовь” и “страсть” хоть и нередки среди людей, но для каждого из них тоже не обыденность.
На тон “заурядной” жизни претендует только отсутствие “размера и ритма”.
А не хотите ли прочесть, как в классической французской прозе возникла та – по Великовскому - “
гибкость… чтобы примениться к лирическим движениям души”?“
Нагнетание эстетически определенных речевых элементов и построений (героических, трагедийных, патетических, идиллических, элегических, сатирических, комедийных, саркастических, фарсовых и т. д.) - сделало бы попросту невозможным изображение тех незаметных переходов и оттенков, того неуловимого движения и изменчивости, того зыбкого трепета красок... изменчивой, зыбкой, неуловимой - и в то же время предметно встающей перед нами - стихии любви Дегрие и Манон, этих противоречивых поступков, столкновений, мыслей и чувств... Но схватить бытие и сознание в их тонких, незаметных переходах и оттенках и в их зыбком, мгновенно изменяющемся протекании, можно лишь с помощью точных, объективных и прозрачных образных средств. В романе тропов меньше, чем даже в разговорной речи” (В. Кожинов).Да-да. Это отрыл для литературы Прево более чем за сто лет до того. В рамках стиля рококо. С его идеалом близкого и достижимого счастья, не очень-то и глубокого. То есть, открыто это было не для такой возвышенной и трудной задачи, какую вознамерился решить Бодлер и его последователи: “
выступить уже сейчас предтечами, а завтра – возможными первосвященниками некоего обмирщенного вероисповедания. В историческом “царстве кесаря” - представительствовать от лица вечного “царства духа””Потому и сталкиваются в данной специфической поэзии Бодлера отсутствие размера и ритма с пафосными словами.
Спасибо, конечно, Великовскому, что он открыл для меня магистраль, путь постижения тех, кого все, наверно, называли декадентами, и кто декадентами не был, оказывается. Но на веру я брать ничего не могу. Я проверил Великовского своим анализом (у Великовского – синтез). Великовский оказался прав. Но я надеюсь, что мой труд проверки будет полезен не только мне.
18 февраля 2004 г.
Натания. Израиль.
Рембо
А еще оригинальных прочтений, других поэтов - не хотите ли?
С Великовским многое по плечу.
Все помнят, что оранжевые песни оранжево поют. Так применение прилагательных (в значении наречий) в сочетании с глаголами открыл, оказывается, Рембо. И сделал это для… выражения своих ультралевых идеалов.
Покойный Великовский не поблагодарил бы меня за мою популяризацию его. Этак, без подготовки читателя, выдавать невыведенный вывод – все равно, что вызвать подозрение в натяжке. Однако что мне заботиться о Великовском. Мне надо продемонстрировать эффективность моей системы. А она состоит в опоре на текст как на главное.
А Великовский - для Рембо - начал с подсобного. И сочувствовал-де Парижской Коммуне Рембо, и – ненавистник был-де врагов, потопивших Коммуну в крови, и - со скверным-де характером был поэт, остро проявлявшимся в отношениях с политическими приспособленцами, принявшими-де то потопление
в крови.Я же акцентирую лишь, что упомянутые прилагательно-наречия применены им в целях воздействия на приспособленцев не искусством, а жизнью, т. е. не непосредственно и непринужденно, а непосредственно и принуждающе. Ему надо, чтоб приспособленцы вздрогнули от воспоминания о пролитой лавочниками крови. Ему надо, чтоб они как бы воочию увидели, какой ужас наделан среди какой красоты.
Рисковал Рембо? – Рисковал.
Я рискую втрое, вчетверо больше: я не могу перевести те стихи, а частичный перевод Великовского не впечатляет. “Звезды розово пролили слезы… Бесконечность бело прокатилась… Море рыже выстелило жемчуг… Человек
черно окровенил…”L’etoile a pleure rose au c?ur de tes oreilles,
L’infini roule blanc de ta nuque a tes reins;
La mer a perle rousse a tes mammes vermeilles
Et l’Homme saigne noir ton flanc souverain.
1871
Год Парижской Коммуны… Правда… непонятно, что за море...
Трудно поверить, что можно таким словоприменением пронять мещанина.
В Интернете (
http://www.poetes.com/rimbaud/etoile.htm) эти стихи усилены “живой” иллюстрацией: опрокинутая маска человеческого лица, искаженного то ли маской, то ли изначально какой-то непонятной гримасой, и в момент появления стихов и маски на экране дисплея из виска маски начинает стекать тонкая струйка алой крови, постепенно расширяясь, спускаясь и застывая на щеке.“Брр!” - должен невольно произнести чувствительный человек.
Так учтя Великовского, - что Рембо “
есть предвестье тех “пощечин” благопристойному мышлению и вкусу, какие будут столь часто раздаваться из уст “авангардистов” в ХХ веке”, - я вспомнил описание одного перформанса, созданного столетие после Рембо. Художник-американец, обуреваемый пацифизмом в разгар вьетнамской войны - с ее несильным ручьем цинковых гробов из Вьетнама в США - и будучи в отчаянии, что пацифисты не в силах докричаться до общественного мнения, собрал публику и продемонстрировал, как нанятый им снайпер простреливает ему, художнику, мягкие ткани оголенной руки.Вот уж - бррр!..
Я это называю околоискусством.
Это пятая,- после упомянутых в предыдущей статье,- ветвь искусства в смутные времена. Ветвь, противоположная четвертой – тоже околоискусству: декадентству. Только декадентство – от полного отсутствия идеалов, от идейности, раной нулю. А авангардизм – от слишком сильной идейности. Требующей немедленно-действенного - в духе своих идей - вторжения в мир.
Бодлер, по большому счету, и авангардизму дал рождающий импульс: интенцией немедленного восполнения отвратительной жизни квазирелигией.
У более активного и волевого Рембо это логически вылилось, по Великовскому, в рождение авангардизма.
*
Естественно, тогда еще слабенькие потрясения от чтения непереносимых стихов получались. Но дело должно было идти в направлении к околоискусству. Не к катарсису от противочувствий (происходящих от противоречивых элементов), а к заражению. Я поначалу – по инерции – даже предупрежденный Великовским об авангардизме не сразу осознал про заражение, а подумал о противочувствии от противоречий, когда прочел,
что Рембо “в изысканнейшем слоге воспевает… не слишком возвышенное занятие” раздавливания вшей ногтями:Искательницы вшей
Когда ребенка лоб горит от вихрей красных
И к стае смутных грез взор обращен с мольбой,
Приходят две сестры, две женщины прекрасных,
Приходят в комнату, окутанную мглой.
Они перед окном садятся с ним, где воздух
Пропитан запахом цветов и где слегка
Ребенка волосы в ночной росе и в звездах
Ласкает нежная и грозная рука.
Он слышит, как поет их робкое дыханье,
Благоухающее медом и листвой
,И как слюну с их губ иль целовать желанье
Смывает судорожный вздох своей волной.
Он видит, как дрожат их черные ресницы
И как, потрескивая в сумрачной тиши,
От нежных пальцев их, в которых ток струится,
Под царственным ногтем покорно гибнут вши.
Ребенок опьянен вином блаженной Лени,
Дыханьем музыки, чей бред не разгадать,
И, ласкам подчинясь, согласно их веленью,
Горит и меркнет в нем желанье зарыдать.
А что перед нами? – Это как коммунар, связанный, но не сломленный духом, перед врагом-расстрельщиком. Хоть плюнуть ему в лицо, раз побежден и больше ничего не можешь. Но чтоб попасть в лицо, надо, чтоб тот подошел близко. Для этого и предназначен изысканный слог. И неагрессивный сюжет – тоже. Ребенок, стая “смутных грез”, “две женщины прекрасных”, “их робкое дыханье, благоухающее медом и листвой”. И вдруг – слюна. И вши. Их треск, раздавленных ногтями.
Впрочем, Великовский, не вооруженный ни понятием авангардизма как околоискусства (когда вместо “не-в-лоб”-катарсиса дается “в-лоб”-принуждающее-воздействие: например, разговор о том, о чем не принято говорить в приличном обществе), а также не вооруженный методом нецитируемого катарсиса, Великовский выбирает для цитирования плохой вариант стихотворения – перевод Б. Лившица. Там уже в первом куплете мерзость:
Когда на детский лоб, расчесанный до крови…
Лившиц тоже не подумал, что мерзость нужно выдать неожиданно.
Кстати, автомат перевел мне с подлинника так: “Когда фронт ребенка, большое количество красных цветов бури”. Крови тут нет.
Зато кровь недавно была на парижских улицах. Кровь тех, кто так давно так грязно живет, что для них искать вшей друг на друге стало столь же приятным занятием, как обезьянам. Вот откуда в стихотворении “ласкам подчиняясь”, “дыханьем музыки”, “нежных пальцев” и тому подобное. – Это адрес: кто плюнул в лицо приблизившемуся палачу революции, или тому большинству, с чьего молчаливого согласия палач лил кровь.
Лившиц и Великовский, по сути, тянули такие стихи в бурлеску, в жанр комической поэзии, в полноценное искусство. И сам авангардизм – тоже, пожалуй, считали полноценным.
А я, обостряя, возражаю.
*
Начав возражать, я осмелел и стал видеть у Великовского просто ошибки.
И это само оказалось ошибкой. По-моему, поучительной. И я дам ее ниже курсивом.
Вот Великовский говорит об отличии Рембо от романтиков:
“
…отправляясь от достаточно обычной со времен романтиков насмешливой неприязни к убожеству застойной обывательщины, Рембо – вслед за Бодлером <…> - придает своему бунту всезатопляющий, бытийный размах недовольства земным жизнеустройством как таковым и страстного оспаривания в корне любых, в первую очередь исходящих от христианства, <…> усилий этот порядок провиденциально оправдать, освятить”.Так мало того, что Великовский тут незаметно для себя соскальзывает с отличия от романтиков (апологетами религии, действительно, не бывших) к отличию от Бодлера, неким образом возрождавшего христианство в своем “
смыслоискательном уповании” на “культ искусства”. Того мало.Великовский еще путается между “
инаковерием” Рембо и его неверием ни во что:“…
в отличие от революционера Потье [Весь мир насилья мы разрушим до основанья, А ЗАТЕМ…], мятежник Рембо [мол] ни о каком строительстве другого, справедливого уклада жизни не помышляет. Возвещаемый им бунт метафизичен и самодовлеющ <…> и своей исступленной разрушительностью выдает беспросветное отчаяние, душевный тупик”.И не в том беда, что плохо понятно, как можно творить искусство в подобном безверии. (В качестве исключения, например, такое можно понять. Какое-то время можно-таки творить искусство и не имея идеала. Под лозунгом, например: “Не знаю, но не сдаюсь!..”) А в том беда, что не вяжется с безверием, скажем так, позитивность, замечаемая Великовским у Рембо (по поводу “Пьяного корабля”):
“
“Пьяный корабль” - лирический миф <…> Вереница чудес <…> это восторги <…> причащения бродяжнической свободе <…> опьянение волей <…> бесшабашная удаль <…> ликование <…> Зачарованное первооткрывательство:Я запомнил свеченье течений глубинных,
Пляску молний, сплетенную как решето,
Вечера – восхитительней стай голубиных,
И такое, чего не запомнил никто.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Снилось мне в снегопадах, лишающих зренья,
Будто море меня целовало в глаза.
Фосфорической пены цвело озаренье,
Животворная, вечная та бирюза.
И когда месяцами, тупея от гнева,
Океан атакует коралловый риф,
Я не верил, что встанет Пречистая Дева,
Звездной лаской рычанье его усмирив…
Перевод П. Антокольского
”(Я во многих местах прервал цитату, чтоб прояснить свое – пока еще вам не объявленное – возражение Великовскому. Но я ниже восстановлю справедливость.)
Речь у Рембо о корабле, всю команду которого убили индейцы. Корабль стал неуправляемым. Долго всюду плавал в свое удовольствие. Повествование ведется от имени “я-корабля”. Кончается – плохо. Корабль хочет стать бумажным корабликом, водимым по луже рукой мальчика.
И теперь позвольте мне сравнить воителя Рембо с… воителем Высоцким.
Я - "Як"-истребитель,
Мотор мой звенит,
Небо - моя обитель,
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он - истребитель.
В этом бою мною "юнкерс" сбит, -
Я сделал с ним, что хотел.
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел.
Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,
Но тот, который во мне сидит,
Опять заставляет - в "штопор".
Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому,
А кажется, стабилизатор поет:
"Мир вашему дому!"
Вот сзади заходит ко мне "мессершмитт".
Уйду - я устал от ран,
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу - решил на таран!
Что делает он, ведь сейчас будет взрыв!..
Но мне не гореть на песке -
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике.
Я - главный, a сзади, ну чтоб я сгорел! -
Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул и запел:
"Мир вашему дому!"
И тот, который в моем черепке,
Остался один и влип.
Меня в заблужденье он ввел и в пике -
Прямо
Та же фабула. Освободились от управления суда, водное и воздушное. Получили удовольствие от свободы. И – конец счастью.
И в этой, и в предыдущей статьях я не применял термин “романтизм” в его гражданском, коллективистском, революционном изводе в качестве волюнтаризма. Я применял его в главном смысле – если в моральном разрезе – как воплощение в искусстве эгоистического волюнтаризма.
У Высоцкого таким бунтарем-эгоистом является самолет. И у Высоцкого ярость боя – не всегда совпадает с желанием эгоиста. Большую часть песни – наоборот, эгоист бунтует против (чего уж там прятаться) общественной воли, воплощенной в летчике. И каждому ясно, что образ победы над своеволием самолета есть образ победы летчика над собой, над своей трусостью, над своим эго. И ярость этой борьбы у Высоцкого рождена не памятью о прошлой войне, такими неэгоистами выигранной, а в современной ему борьбе (мирового значения борьбе) индивидуализма и коллективизма, клонящейся к поражению коллективизма (что исторически и произошло через несколько лет после смерти Высоцкого). Но пока он жил, он еще верил, что нечеловеческим усилием можно еще победить, как победили в той войне коллективисты. В бою летчик погиб. Эгоист-самолет освободился, глупый, и тоже погиб. Так эта двойная смерть развоплощается у Высоцкого в бессмертие разумной идеи коллективизма. И ярость тут адекватна и вызвана грозным приближением его, коллективизма, всемирно-исторического поражения. И потому так четок дух героизма у Высоцкого. Еще оставалась надежда победить.
А Рембо написал “Пьяный корабль” после всемирно-исторического поражения коллективизма в
XIX веке.Тут я почувствовал, что давно где-то соскользнул на фальшь относительно Рембо и остановился.
Мне стало ясно, что соскользнув, я поступил в принципе не так, как незнающий, но не сдающийся Рембо.
Я стал делать, как амеба – ложноножки, один из пробных тычков. Метод проб и ошибок… Я предположил, что Великовский зря отличает Рембо от романтиков: “
…отправляясь от достаточно обычной со времен романтиков насмешливой неприязни к убожеству обывательщины, Рембо <…> придает своему бунту всезатопляющий, бытийный размах недовольства земным жизнеустройством как таковым”. Я подумал, что общеизвестная мировая скорбь романтиков ничуть не меньше всезатопляющей, бытийной. Я подумал, что этою всезатопляющею Рембо одарил своего персонажа-романтика – пьяный корабль, как Высоцкий – истребителя без пилота. Я подумал, наконец, что Рембо, как Высоцкий, ЗНАЛ, не только против чего, но и за что бороться. Разве что Высоцкий пел еще до поражения своего идеала, а Рембо – после. Поэтому коллективист Высоцкий махал кулаками в драке, а коллективист Рембо – после драки.Оказалось же (мне стало ясно), что Высоцкий кулаки пускал против живых противников, а Рембо – против каменной стены. Высоцкий – против большинства, которое еще можно меньшинству победить, а Рембо – против не только уже победившего большинства, но и непобедимого. Поэтому Высоцкий бил, как десантники бьют лежащий на двух стоячих кирпичах третий кирпич – прицеливаясь ниже третьего. А Рембо бил, не прикасаясь к кирпичу, а - как в восточных единоборствах: создавая руками и ногами хаос готовности, предназначенный сбить противника с толку и, может, даже заставить противника и не напасть, предотвратив тем и собственное нападение. НЕ КАК амеба выбрасывает ложноножку Рембо, а действует
якобы, виртуально, лишь бы не повело реально действовать туда, куда, окажется, не надо, лишь бы не повело не в желаемое “мною мыслят”, а в нежелаемое “я мыслю”. И оба таки: и Рембо, и Высоцкий – не романтики (в том, обычном, эгоистическом смысле романтизма).Вообще это труднообъяснимое различие: авангардизма от обоих романтизмов.
Привлеку на помощь Пригожина. Он написал: “
Рассмотрим Вселенную в момент ее зарождения. Что она такое как не малое дитя, которое может стать музыкантом, адвокатом или сапожником, но чем-то одним, а не всеми сразу?” Сейчас Вселенная уже самоопределилась. И нам, задним числом, кажется в ней все закономерным. Даже само появление в ней человека. Антропный принцип, так называемый. Когда-то, в первые миги после Большого взрыва, что-то там сделало (одно-из среди набора нескольких качеств Вселенной), что-то там сделало рождающееся пространство трехмерным. Вот через 15 миллиардов лет и появились мы. А сложись так, что пространство развилось бы двухмерным – и все: нам не существовать. Значило ли б второе,- скажем так,- что не надо б было Вселенной и участвовать в такой игре, когда возможен столь малоперспективный расклад? – Нет, не значит. Игра-то, похоже, не однократная. Значило ли, что матери Адольфа Гитлера не стоило и зачинать ребенка от столь упрямого человека, как ее муж, чтоб не толкнул он родившегося малыша на путь бунта против отца, путь, закончившийся миллионами человеческих жертв? – Нет, не значило.Но играть стоило не во исполнение принципа “авось” и “пути Господни неисповедимы”. Нет. Пути Господни исповедимы - через Апокалипсис к вечной гармонии человечества с собой, Богом, или с Иеговой, или с Аллахом: через грех и покаяние – к прощению. А человечество после Гитлера наверно не допустит повторение такого феномена, как Гитлер.
Играть стоило, по Рембо, во исполнение девиза (о простите!) советских пионеров: “Всегда готов!”. Готов к общественному. Не к эгоистическому.
И тогда понимать надо, что его пьяный корабль продолжил тайную волю убитой команды.
Ничто не говорит, что моряки душой участвовали в торговой функции корабля:
Я медленно плыл по реке величавой -
И вдруг стал свободен от всяких оков...
Тянувших бечевы индейцы в забаву
Распяли у пестрых высоких столбов.
Хранил я под палубой грузу немало:
Английскую пряжу, фламандский помол.
Когда моих спутников больше не стало,
Умчал меня дальше реки произвол.
Перевод В. Эльснера.
Моряки в Северную Америку привезли поселенцам товары из Европы. Но на реке корабль направляли совсем не моряки, а бурлаки.
Те, что мной управляли, попались впросак:
Их индейская меткость избрала мишенью,
Той порою, как я, без нужды в парусах,
Уходил, подчиняясь речному теченью.
Вслед за тем, как дала мне понять тишина,
Что уже экипажа не существовало, -
Я - голландец, под грузом хлопка и зерна,
В океан был отброшен порывами шквала.
Перевод Д. Бродского.
Тут есть “экипаж”. По Брокгаузу это французское слово означает служащих в коммерческом флоте. А где душа этих служащих: в коммерции или где-то подальше от нее? Не сказано у Рембо и Бродского.
Когда бесстрастных рек я вверился теченью,
Не подчинялся я уже бичевщикам:
Индейцы-крикуны их сделали мишенью,
Нагими пригвоздив к расписанным столбам.
Мне было все равно; английская ли пряжа,
Фламандское ль зерно мой наполняют трюм.
Едва я буйного лишился экипажа,
Как с дозволения Рек понесся наобум.
Перевод Б. Лившица.
Тут люди, в качестве “буйного экипажа” уж определенно к коммерции имеют косвенное отношение.
Между тем как несло меня вниз по теченью,
Краснокожие кинулись к бичевщикам,
Всех раздев догола, забавлялись мишенью,
Пригвоздили их намертво к пестрым столбам.
Я остался один без матросской ватаги.
В трюме хлопок промок и затлело зерно.
Казнь окончилась. К настежь распахнутой влаге
Понесло меня дальше, - куда, все равно.
Перевод П. Антокольского.
К функции “матросской ватаги” торговля тоже явно относилась постольку, поскольку…
Так как я спускался по бесстрастным Рекам,
Я не чувствовал себя больше управляемым бурлаками:
Крикливые Краснокожие их приняли за цели,
Их приковывавшие голые в столбах цветов.
Я был беззаботным всех экипажей,
Носителя фламандских зерен или английских хлопков.
Когда с моими бурлаками закончили эти шумы,
Реки мне позволили спускаться, где я хотел.
Перевод автомата.
Здесь, наконец, есть озабоченные экипажи носителей товаров. Во множественном числе. Но кто сказал, что экипаж данного корабля был, как все? И потом – что возьмешь с автомата?
Теперь я могу вернуться к обкорнанной мною цитате из Великовского. А там “
лирический миф” противопоставляется “исповеди” (а исповедуются в грехах, не в лирическом мифе). Там “вереница чудес” совмещена с вереницей “опасностей”. Там не только “восторги”, но и “муки отщепенства”. Там и “опьянение волей”, и “тоска от затерянности”, и “бесшабашная воля”, и “изгнанническая тревога”, и “ликование”, и “содрогание”. Там дугинский (из предыдущей статьи) хаос. И этим хаосом, без всякого катарсиса от противочувствий, которые сами – от противоречивых элементов текста, заражает своих доброжелательных читателей Рембо.Вот эти противоречивые элементы (по Антокольскому):
|
В благодетельной буре теряя рассудок, То как пробка скача, то танцуя волчком |
Море грозно рычало, качало и мчало, Как ребенка, всю зиму трепал меня шторм. |
|
Я дышал кислотою и сладостью сидра. |
Сквозь гнилую обшивку сочилась волна. |
|
Так я плыл наугад, погруженный во время, Упивался его многозвездной игрой, |
В этой однообразной и грозной поэме, Где ныряет утопленник, праздный герой |
И так можно продолжать и продолжать. И такова и сама фабула: от освобождения от поводырей к мечте об оном, да еще мальчике, да еще и в луже – бумажным корабликом.
Заражение хаосом готовности к…
…снится
Мне причал, где неистовый мечется дождь, -
Не оттуда ли изгнана птиц вереница,
Золотая денница, Грядущая Мощь?
И вот я смею этакую роскошь называть околоискусством? За то, что оно воздействует гипнотически? Непосредственно и принуждающе, как жизнь, в которой встречается и гипноз? Околоискусством – за то, что оно НЕ воздействует, как искусство? Непосредственно, непринужденно и взаимоуничтожением противочувствий, развоплощением их в катарсис, в художественный смысл, о котором может-де намекнуть одним-двумя словами пронзительный посредник?
Однако!- ответит большинство с сомнением
.Но я все равно уверен, что прав я! Потому что, когда говорю об искусстве, то говорю об идеологическом искусстве, т. е. неприкладном по преимуществу (типа о симфонии, а не о марше для маршировки или колыбельной для убаюкивания).
Не знаю, почувствует ли кто-нибудь себя загипнотизированным “Пьяным кораблем”. Говорят, для того, чтоб поддаться гипнозу, надо сначала об этом намерении быть предупрежденным, а потом надо согласиться на эту процедуру. Ну так считайте, что вы мною предупреждены. А теперь читайте, скажем, перевод Антокольского, которого предпочел Великовский:
http://orel2.rsl.ru/nettext/foreign/rembo/rembo1_1.txt.Прочли? Теперь скажите, что вы пережили? Если не поддались грустной концовке и удержали впечатление от целого, то, я думаю, – растерянность: “что тут к чему?”
Так это Рембо еще не позволил себе отказаться от таких “
“изложниц”, структурно родственных основным законосообразностям переживания миропорядка”, как певучесть, повторяющийся размер, ритм, рифма. А вот что получилось, когда позволил:Из серебра и меди колесницы –
Стальные корабельные носы –
Взбивают пену, -
Прибрежные кусты качают.
Потоки ланд,
Гигантские промоины отлива
Крутообразно тянутся к востоку,
К стволам лесной опушки,
К опорам дамб,
В чьи крепкие подкосы бьет круговертью свет.
“Морской пейзаж”. Перевод А. Ревича
Ланды это песчаная многокилометровая низменность вдоль Бискайского залива, отделенная от моря высокими дюнами, а под дюнами - вытянутые озера. Видно, есть промоины между морем и озерами. Море – на западе, ланды – на востоке. Отлив – от востока. Почему “промоины отлива крутообразно тянутся к востоку”? – Наверно, для противоречия. Его чувствуешь, даже и не зная географию этого района. Потому что отлив
– “к стволам лесной опушки”, а не наоборот. – Как это гребные колеса и корабельные носы “прибрежные кусты качают”? – Наверно, тоже для противоречия. Размеры строк разные, но не совсем – есть некая кучность одноразмерных. Ритм есть, но нарушается. Явно нарочно, а не от неумения. “Деятельное беспокойство” должно внушить первое во Франции и в мире произведение, созданное в форме свободного стиха.Разве вы не согласитесь, что никакого катарсиса от него не возникает? Не возникает, ибо противоречия не потому созданы, что художник не в силах иначе выразить неуловимое, но определенное, для чего и берет его как артиллерист в вилку: недолет – перелет. Противоречия – ради хаоса готовности ко много чему. И это – “в лоб”, а не наоборот. Это и есть извод авангардизма.
1 марта 2004 г.
Натания. Израиль
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |