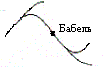
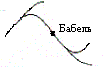
С. Воложин
Бабель. Одесские рассказы.
Пан Аполек. Мария.
Художественный смысл
| Не бездумный беллетрист, не критический реалист, не романтик, не все экзотизирующий формалист, не тайный сионист и не умиротворяющий почти христианин… |
Вторая интернет-часть книги “О художественном смысле произведений Бабеля”
ИСПЫТАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЕМ
(И кем только Бабеля не считали, а он...)
Когда рукопись “Открытие Бабеля для себя и других невежд” стала гулять по рукам, оказалось, что для некоторых она вовсе не открытие, а сокрытие. Со мной не соглашались, спорили. Были выпады, мотивированные ссылкой на ту или иную деталь произведения Бабеля (я такие уважаю). На них хотелось дать ответ (хотя бы для самого себя
). Это оказалось не просто. Значит - интересно.Нашлись и иные читатели. У них возник вопрос, нет ли здесь новости в масштабе, так сказать, бабелеведения. Я не знал. Я не читал ни одного чужого разбора. А почитав,- мотивированные, опять же, деталью произведения,- я с прочитанным не согласился. Кто ж прав? Доказать, что я? Снова оказалось трудно. Значит - интересно.
А раз интересно мне, то, может, и других заинтересует?
Так родился этот опус.
* * *
- А не односторонний ли это подход: трактовать Бабеля берущим исключительно непотребных евреев в герои одесского цикла? Вот есть такой рассказ, “Как это делалось в Одессе”. Он весь посвящен прямому восхвалению Бени Крика...
Откроем книгу на этом рассказе.
“Начал я”.
Такова первая, короткая строка этого произведения. С точкой. Без двоеточия. Далее с красной строки идут 16 строчек рассуждений рассказчика и его вопросов к кладбищенскому побирушке, старику Арье-Лейбу. А потом - весь остальной рассказ. И он - от имени этого Арье-Лейба. Новеллу почти можно было б переименовать так: “Как это делалось в Одессе с точки зрения Арье-Лейба”.
Вот такого нюанса не заметил мой оппонент (назовем его Номер Один), и судит он о данном рассказе, как судит о Бене Крике - положительно судит - нищий Арье-Лейб с высоты кладбищенского забора.
Подобно упрекал Горький буденовцев, разозленных ужасными персонажами бабелевской “Конармии”: нельзя, мол, о Бабеле судить с высоты коня.
А что Арье-Лейб?.. Роскошные задал Беня Крик похороны приказчику Тартаковского, Иосифу Мугинштейну, нелепо и зря убитому при налете Бениным сообщником, пьяным евреем Савкой. Роскошные и примечательные. Тем более примечательные, что Беня убил убийцу и рядом, в тот же час похоронил его так же шикарно. А что кладбищенскому нищему кроме подачки нужно? - Зрелище. Он его и получил сполна. По-королевски одарил его Беня.
Кто первый назвал Беню Крика Королем? - Такой же кладбищенский нищий. “Шепелявый Мойсейка,- отдает конкуренту должное Арье-Лейб за меткость клички,- тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке”. Кладбищенская, имеется в виду, стена, у которой просят милостыню и с которой смотрят зрелище богатых похорон. Да и творят общественное мнение, как оказалось.
Нет, они, эти побирушки, даже по-своему правы. Они даже мудрецы. Грабили в Одессе многие. Но лишь когда бандиты становятся властью в нетоталитарном государстве, лишь тогда устанавливается некоторый порядок (как и при всякой сильной власти). В частности, дойным коровам (богачам) дают жевать свою траву (делать бизнес с любой прибылью за минусом необременительных поборов). А не как совет бандитов города (до воцарения Бени) - назначил десятый подряд налет на Рувима Тартаковского. Такое решение свидетельствует о слабости, а не о силе. И когда Беня на это решение двусмысленно ответил “да” и хлопнул дверью, стало ясно, что подобный бунт на корабле есть предпосылка прихода мафии к власти, во главе которой будет Беня Крик, осмелившийся.
Нет, побирушки по-своему правы. Лес рубят - щепки летят. Надо полагать, были убийства при ограблениях и до того, как Беня “прибился” к бандитскому “берегу”. Но только Беня, только он, похлопотав в больнице о смертельно раненном Мугинштейне, выбив единовременное “пособие” и пожизненную “пенсию” горюющей матери Мугинштейна, тете Песе, повел себя как хозяин города, пусть и еврейской его части, но хозяин. Только Беня, впервые, покарал убийцу убитого. Власть есть власть. Полиции это было не под силу. Власть есть определенный порядок. И только власть имеет привычку промах (зря убили приказчика) выставить перед толпой победой (пышные похороны). Эти феноменальные похороны были, по сути, праздником по случаю взятия власти над еврейской частью города мафией.
“Городовые в этот день надели нитяные перчатки”.
Нет, побирушки не только по-своему правы. Не только им - всем неудачникам в той сволочной жизни понравилось прозвище “Король”. Потому что всем им нужен сволочь-кумир, наполеон, который делает все, что хочет, все, что не могут себе позволить они, маленькие людишки. А лучшим представителем мизерных человечков является побирушка, “работающий” на своем, отведенном мафией, участке города.
Бабель знал, кому дать спеть гимн королю бандитов.
Вот и говорите после этого, что писатель, опубликовавший уже несколько новелл ко времени написания данного рассказа (некоторые новеллы - неоднократно), что автор, уже вошедший в великую русскую литературу, которому до широкой известности оставался лишь год, а до всемирной - лишь два-три года, вот и говорите, что он восхвалял Беню Крика от своего имени.
Введя двойную дистанцию между собой и Арье-Лейбом (Бабель - рассказчик и рассказчик - Арье-Лейб) автор, воспевая Короля, сотворил - по Бахтину - эстетическое отрицание этого Короля.
- Но почему читаешь - и чувствуешь любовь автора к своим персонажам?
Потому что это искусство. Оно соткано из противочувствий. Автору необходимо - он осознает это как вдохновение - раскачивать наши чувства из одной крайности в другую, сталкивать эти крайности, чтоб от их столкновения, как искра от удара огнива об кремень, в нашей душе творилось бы третье, а именно то, что хотел “сказать” автор, но “сказать” так, чтоб мы это сами “выговорили”. Он выдает и хулу и хвалу, а имеет в виду третье. И только от нашей предвзятости зависит увидеть или хулу, или хвалу, и лишь от непредвзятости - увидеть и первое, и второе, и третье.
Первое. Слушающий Арье-Лейба рассказчик,- да вслед за ним и мы,- не причисляя рэкет к общечеловеческим ценностям, вполне способны для себя отметить, что Беня не за свой счет устроил шикарные похороны, а бесплатно: запугав шестьдесят певчих и кантора - чтоб пели, служек - чтоб зажгли электричество в синагогах и увили их зеленью, старост синагоги - чтоб вели тетю Песю под руки. Не за Бенин счет были наняты белые лошади, колесница, плюмажи. Не из своего кармана он единовременно выложил тете Песе пять тысяч рублей, а из кармана запуганного им Тартаковского. А какой страх перед Беней испытывала вся похоронная процессия, раз после похорон буквально разбежалась? А кто дал Бене право отнимать жизнь у неосторожно стрельнувшего подвыпившего Савки?
Первое - действует на нас негативно.
Другое дело, что человеческий материал, составляющий мафию, безусловно недурен. На еврейский погром ответить погромом погромщиков - это ли не пример для подражания (действительно, говорят, из Одессы произошел исторический поворот в умах европейского еврейства Нового времени: не считать еврейский погром нормой).
“Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской... [а в это время] Процессия [похоронная, не с Мугинштейном, а другая] дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам”.
Другое дело, что особенно хорош Беня:
“Представьте себе на мгновенье...
[Арье-Лейб предлагает рассказчику вжиться в Беню Крика.]
...что вы скандалите на площадях... Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переспать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле”.
Или:
“Беня говорит мало...
[Хвалит его Фроим Грач.]
...но говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь”.
Другое, опять же, дело, что вся публика все проделывает с элементом игры:
“- Где начинается полиция,- вопил он...
[Тартаковский, после смерти Мугинштейна.]
...и где кончается Беня?
- Полиция кончается там, где начинается Беня,- отвечали резонные люди”.
Или: Тартаковский, которого за огромный рост, богатство и дерзость знали все...
“...встретил похоронную процессию с певчими...
[Ту, что со спрятанным пулеметом.]
...на Софийской. Он спросил:
- Кого это хоронят с певчими?
Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского”.
Или:
“...Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... [деньги]”
Наконец, другое дело, что сам Арье-Лейб незауряден. Бабель не раз наделял своих героев литературным талантом. Вот и этого одарил.
Все это “другое дело” действует на нас позитивно.
А третье дело - то, что должно произойти в наших душах от столкновения первого и второго.
Не всем, повторю, дано, чтоб их озарило это третье. И не всякий отдельно взятый рассказ из сборника рассказов имеет все, чтоб достаточно внятно определить наше озарение.
Рассказ “Как это делалось в Одессе” кончается философской сентенцией Арье-Лейба слушающему его рассказчику:
“Теперь вы знаете все... Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень”.
О чем грустить заставил Бабель рассказчика, а Арье-Лейба - догадаться о его грусти? И зачем этот упор на грусти?
Арье-Лейб хотел бы пленить рассказчика артистизмом того, “как это делалось в Одессе”, для чего,- мудрый,- призывал умудренного грустью рассказчика-очкарика забыть о своей опытности и присоединиться к его, замухрышки, оценке. Но Арье-Лейб догадался, что свою оценку он умудренному не внушил (“но что толку... по-прежнему”), и тот все счел - ну чем, раз не артистизмом?- балаганом.
А в нас,- сталкивая артистизм с балаганом,- Бабель рождает нечто среднее.
* * *
- Вы не подымаетесь выше текста, к контексту, как я контекст понимаю,- обвинил меня оппонент Номер Два.- Вы как человек, например, нашедший светофор, не знающий, что это и пытающийся определить. Вы даже догадались, что он светится и висит. Пусть вы повесите его в комнате и засветите - вы разве поймете его назначение, не зная обстановки, что его окружала, когда он “жил”?
Я действительно очень чту текст. Потому чту, что не выношу построений, опирающихся на что угодно, только не на текст, а, скажем, на биографию художника, на черты современной ему эпохи, ведущего стиля, художественной моды, журнальной борьбы, на письма писателя, его высказывания, воспоминания о нем и т. д. и т. п. Все это может быть привлечено, но лишь как вспомогательный материал. Главный же есть текст, только текст и ничего, кроме текста.
Для меня выпад Номера Два значил, что он, читая мою рукопись, видел фигу. Но я его вспомнил сейчас.
Почему?
Если спросить себя строго, то только что прочтенный вами итог разбора не иллюстрирует ли, что я выше текста не поднялся. “Забудьте на время” арье-лейбовское и его “Но что толку”, воспринятые мною как попытка и неудача увлечь рэкетиром,- не есть ли заземленность на тексте, не есть ли невыход на уровень автора? (А “среднее” между артистизмом и балаганом не есть ли псевдовыход?)
Я б Номеру Два и резонов (на свой вкус - текстовых) подкинул бы, спорь мы с ним о только что состоявшемся разборе.
- Смотрите,- сказал бы Номер Два,- рассказчик - очкарик, и Бабель - тоже; рассказчик не перестает “скандалить за письменным столом”, и Бабель имел неприятности за порнографию в своей еще дореволюционной одной публикации; да и натурализм его послереволюционных рассказов иных шокировал. Следовательно, рассказчик это и есть Бабель. И нечего делать различие между их точками зрения.
Или:
- Ах, вы не видели фотографий зрелого Бабеля и не знаете, что он носил очки! Ах, вы ничего не знаете о читательской судьбе его произведений! Ну, так это из области контекста, к которому вы не восходите.
Или:
- Наконец, вы обошли молчанием два слова в рассказе - “ужасный конец” Бени Крика. Ах, вы и об ужасном конце прототипа Бени, Мишке-Япончике ничего не знаете? Ну, конечно: прототип это тоже из области контекста. А этот прототип, к вашему сведению, когда в Одессе победила советская власть, перешел на ее сторону и был ею предательски уничтожен. Могло это настроить на грустный лад Бабеля-рассказчика, этот единый, как мы выяснили, субъект? И этот единый субъект, может, потому и выбрал местом рассказа кладбище, что взлет Короля напомнил ему - по принципу противоположности - его финал. И потому, может, рассказ кончается словами “в душе осень”?
* * *
Такие сомнения возникли у меня теперь, когда я увидел фото Бабеля, узнал, как принимали его рассказы, и прочел работу Номера Три, где было и о Мишке-Япончике. Рукопись той работы наверно уже лежала в столе у Номера Два, когда он ругал меня: меньше, чем через год, он Номера Три опубликовал. У того было (а может, Номер Два и сам знал) еще кое-что из “контекста” слов “в душе осень”, написанных в 1923 году.
Читаем это “кое-что”:
“...уже в двадцатые годы, то есть на заре советской власти, так или этак Бабель вынужден был отказываться от своего, то есть еврейского...
[То есть с грустинкой, видно.]
...”стиля видеть вещи” ”.
Пусть это не факт, а голословное утверждение. Зато он обрамлен фактами. Спереди: Бабель участвовал в создании “малоинтересного” фильма “Беня Крик”. Сзади:
“В 1930 году Бабель публично заявил:
“Мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей “Конармии”, ибо “Конармия” мне не нравится”.А пассаж об осени в душе, сам помещенный в конце большой работы, замыкается у Номера Три таким фактом:
<<Славин сказал:
“Люди, которым можно верить, своими глазами видели и читали заявление Бабеля на имя НКВД: “Прошу считать ложными все имена, которые я называл и относительно которых я давал показания”.Я спросил у Славина: “Что вы имеете в виду: что Бабеля пытали, и он дал под пытками ложные показания? Или вы имеете в виду другое: что Бабель кого-то оклеветал?”
Старик Славин... отвечал:
“Я не знаю. Не знаю. Я повторил то, что мне сказали”. Потом добавил: “Бабель всю жизнь, с молодых лет, якшался с чекистами. Это все знают. И он сам говорил” >>.Звучит для памяти об Исааке Бабеле ужасно в год опубликования этой работы, 1994. И после этого факта Номер Три свою работу кончает минором:
“Увы, старая как мир история: на памяти великих молва вьет свои змеиные гнезда.
Я вспомнил слова Исаака Бабеля, внука раввина, сказанные устами дряхлого Меера Бесконечного: жизнь - смитье, свет - бордель, люди - аферисты. Вспомнил слова талмудиста Исаака Бабеля, сказанные устами древнего Арье-Лейба: человек не достоин материала, который пошел на него”.
И назвал свою вещь Номер Три соответственно - “Утоление печалью”.
То есть,- понимайте,- если Бабель всю жизнь то и дело творил нехорошие вещи: лгал в творчестве, предавал его и своих знакомых,- то у него на душе было от чего быть затяжной и ранней осени.
А когда он из этой осени - утоляясь печалью - в искренних произведениях (например, “Как это делалось в Одессе”) - все же вырывался, то это был,- понимать надо,- порыв аж в лето, что будет в далеком-предалеком будущем, в сверхбудущем - не доживешь. Это был пессимизм особый - сверхисторический оптимизм, лелеемый его народом, евреями, уже две тысячи лет. Это:
“...страстная мечта о сильных евреях, о евреях со своим королем... мечта об истинных евреях - исполинах духа, воли и действия... мечта о независимости, о суверенитете евреев, которым как и тридцать столетий назад в Эрец Исраэль, надлежит иметь и свою аристократию и своих королей”.
И Номер Три приводит такой,- контекстный, сказал бы Номер Два,- факт: высказывание Бабеля о евреях:
“Мы народ жестковыйный”.Ну что на все это скажешь? Здорово закручено. И логично. Но быть логичным не значит быть правым.
Я даже согласился бы со всем этим построением, если б Номер Три акцентировал сверх-, так сказать, исторический оптимизм, но только не автора рассказа, а писателя-рассказчика из рассказа.
Мы еще увидим, что Бабель и в “Конармии” вводил рассказчика, физиономией, биографией и по-всякому близкого себе. Вводил - для того, чтоб бороться с ним, изживать в нем себя, человека, каким он родился и воспитан. Изживать экстремизм. А сверхисторический оптимизм - это вид экстремизма. Бабель хотел изживать экстремизм уравновешенностью, серединностью, снисходительностью, соединением несоединимого.
Так поступил он и в рассказе “Как это делалось в Одессе”. Для того-то рассказчик тут очкарик. Для экстремизма - скандалист за письменным столом. И “ужасный конец” Бени Крика для такого скандалиста,- скандалиста, выходящего за рамки революционной морали, категорически не приемлющей мораль рэкетира,- ужасный конец рэкетира вполне мог навевать на скандалистскую душу осень, пока он слушал про весну Бени Крика.
“...поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце”. -
Предлагает Арье-Лейбу и нам, читателям, скандалист. А его ли воля была ограничиться разговором лишь о молниеносном начале? Нет. Воля Бабеля-автора.
Значит, есть-таки разница между рассказчиком и автором. И если рассказчик - это писатель-скандалист, то автор кто? Миритель?
Номер Три пишет, что Бабель не миритель, а творец, который, что бы ни сотворил...
“...дает понять: но это не главное, главное я сказать не могу. И я хочу,- вживаясь в своего Бабеля продолжает Номер Три,- чтобы вы знали: главного я сказать не могу”.
Трудно говорить о том, что не сказано. Номер Три берется. Но... не опираясь на текст. Он опирается на “контекст” Номера Два. А это значит, что он ведет речь о Бабеле-человеке, а не о Бабеле-авторе.
Но это ж различающиеся понятия.
Пока не требует поэтаК священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
Если признать, что Бабеля-человека Номер Три разгадал (а это - экстремист, как мы определили), то рассказчик в рассказе “Как это делалось в Одессе” подозрительно похож на Бабеля-человека - не только портретно, но и психологически.
Ну, отождествим их на минуту и спросим себя: мог аристократ в душе и по образованию Бабель-человек, мечтающий о еврейской аристократии, видеть в Бене Крике что-нибудь большее, чем потуги на аристократизм? Мог ли,- еще раз спрошу я вас,- Бабель-человек иметь с Арье-Лейбом одну и ту же точку зрения на рэкетира?
Нет.
А от столкновения несовпадающих точек зрения рождается третье, среднее, грустное среднее, предвиденное Бабелем-человеком и рассказчиком по рассказу и утвердившееся от повествования Арье-Лейба. Грустное среднее - моветон с точки зрения аристократа духа...
Но Номер Три такими литературоведческими тонкостями (как противочувствие и возвышение чувств) побрезговал почему-то. Истина за это мстит. Номер Три выглядит смешно, вводя единство Бабеля-человека, Бабеля-автора, рассказчика-скандалиста и Арье-Лейба и пытаясь вжиться - не дистанцируясь вжиться - в это, лишь в его, Номера Три, голове существующее единство,- пытаясь вжиться при опоре на текст или подтекст.
“...одесские бандиты... в критические моменты жизни обязательно вспоминали, что они евреи. И когда настало время хоронить несчастного Иосифа Мугинштейна... Беня Крик... обращается с покаянной речью к тете Песе, которая была... никто и ничто: “...если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее...”
”Вы верите, что может? Разве это не все та же одесская привычка все делать и говорить не всерьез. Когда твое дело прочно, тогда хочется и можется и шутить, и бравировать, и играть, и смеяться, и вести себя театрально.
Или вот:
“Чтобы восстановить справедливость, Беня назначает тете Песе пожизненную пенсию из кассы богача Тартаковского...”
Номер Три закрывает глаза на то, что по тексту рассказа Беня вынужден был это сделать, иначе общественное мнение, которое рэкетиров терпело, могло бы восстановиться против них, а тогда “работать” сложнее:
“...Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только “полтора жида”...
[Так прозвали Тартаковского за очень большое богатство.]
...поднял крик на всю Одессу... и он дождался того...”
Дальше произошло “назначение” пенсии за его же счет - чтоб не кричал на всю Одессу и не докричался до одобрения жителей.
А эта попытка Номера Три, интеллигентного человека, в конце ХХ века,- попытка вжиться в арье-лейбовское приятие казни Савки Буциса,- попытка вжиться, не дистанцируясь, то есть как бы и от имени своего товарища по профессии, Бабеля-автора, попытка вжиться, не дистанцируясь:
<< “Око за око, зуб за зуб” - и Бенцион Крик, восстанавливая попранную справедливость, как ее понимали праотцы наши...
[Оказывается, вовсе не “не убий”?!]
...приговаривает Савку Буциса к смерти...>>
Наверное эта эпичность - для позитивности ассоциативной связи между мафией и аристократией праотцов.
В общем, вольно себя чувствует Номер Три.
Позволю себе и я одну вольную фразу. Читатель, а ну, догадайтесь: какая одна и та же причина могла побудить Номера Два в моем “Открытии Бабеля для себя...” увидеть игнорирование “контекста” “Одесских рассказов”, а Номера Три - игнорировать в своем опусе текст разбираемого рассказа.
*
Единственный у Номера Три резон, опирающийся, вроде бы, на текст, это ссылка на сюжетный ход о победе Бени Крика над приставом. Так и тот - из другого рассказа, из "Короля".
Этот сюжетный ход - победа власти еврейской мафии над властью царской полиции - мог бы таки служить образом еврейской мечты об иной власти: государственной власти еврейской аристократии над остальными евреями. Действительно, если нигде на свете нет никакого самоуправления евреев, а в бабелевской Одессе есть, да еще и побеждает вдруг воспрянувшего врага, запретендовавшего тоже на власть над тем же кругом людей, то...
И в “Короле”, при описании той победы, уже нет никакого Арье-Лейба или экстремистского пересказчика, на которых можно было б списать такой запредельный для 1923 года (года написания “Короля”) идеал, а автора - этого идеала лишить.
“Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав - та самая метла, что чисто метет,- стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие,- сказал он сочувственно.- Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...
Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:
- Ай-ай-ай...”
Здесь все ведет вездесущий и всезнающий автор: и все четыре стороны, с которых пылал участок, он обозревает, и сквозь стены видит задымленные лестницы и бегающих по ним городовых, и арестованных от прочих людей отличает, и даже техническую причину неэффективности пожарных он ведает.
И этот автор позволяет себе тоже подтрунивать над приставом: дважды им повторено слово “метла”. Второй раз он почти обзывает метлой пристава, хоть тут еще остается налет будто бы поговорки. Автор пристрастен. Он придал изящество бандитскому предотвращению облавы и спасению свадьбы; он посмеялся над глупостью нового пристава, не успевшего на новом для него месте осмотреться и все взвесить, а уже принявшегося действовать.
Но! Разве автор не любуется этим покусывающим усы озадаченным приставом, таким, каков он есть, глупым. Разве не любуется он им так же, как пронзительным Беней. Разве в этом юмористическом сюжетном ходе правомерно усматривать высочайший, тысячелетиями недостижимый идеал угнетенной, но фанатичной нации. Разве о том болела душа художника в 1923 году (год создания - тоже элемент произведения), когда он ошпарился об фанатические замашки споткнувшейся революции, этой священной войны, этого джихада, этого экстремизма. Разве
незлым юмором выражают... крайности?Можно, наоборот, сказать: вымышленный мягкий сюжетный ход победы есть образ мечты автора о том, как уже победившая советская власть
сумеет бескровно усмирять там и сям еще вспыхивающие бунты.*
Труднее спорить с Номером Три, когда он касается рассказа “Фроим Грач”.
“Во исполнение этой мечты...
[О еврейской аристократии, как тридцать столетий назад в Эрец Исраэль.]
...двух главных своих героев... Беню Крика и Фроима Грача... Бабель дважды сталкивает с державными властями России: один раз до революции - с царской полицией, другой раз после революции - с большевистской ЧК..
.Однако царская полиция - это одно, а большевистская ЧК - это другое. И Фроим Грач, как было сказано, истинный глава сорока тысяч одесских воров, бандитов и налетчиков, по планам которого вершились все мокрые дела в Одессе - разгром фабрик и казначейства, нападение на добровольцев
[белогвардейцев] и союзные войска [Антанты],- нашел свой последний приют во дворе ЧК, с десятью зарядами в груди, под брезентом. И присланный из Москвы председатель ЧК Владислав Симен, хотя скинули уже царя, извели полицию, произносит по этому случаю слова, которые как две капли воды похожи на слова царского пристава:“...только мы - власть, мы - государственная власть, это надо помнить...” ”
И видя в Бабеле представителя закаленного тысячелетиями фанатизма евреев, Номер Три этим объясняет бабелевскую способность, несмотря на смертельную опасность, все-таки выступить против тоталитаризма большевиков:
“...вся правда о советской власти - в одной фразе старого Фроима Грача, которую тот сказал Владиславу Симену, председателю ЧК, присланному в Одессу из Москвы: “Хозяин, кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?”
...Устами одесского еврея, бандита, налетчика и мудреца Бабель разделил всю человеческую массу, доставшуюся Советам в наследие от старой России, на "орлов и смитье”. Орлов перебила ЧК, осталось смитье - какие тут еще комментарии нужны!”
А такие: Бабель-автор ли разделил?
Номер Три, цитируя, опустил продолжение и суть монолога Фроима. Вот оно:
“...Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену”.
Грач произнес это, зная стиль работы ЧК - расстрел после допроса. В начале рассказа есть такие слова:
“Прошел месяц...
[Как установилась советская власть в Одессе и как налетчики не унимались.]
...прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской”.
Мафия и ЧК обоюдно внедрили своих агентов друг к другу.
Знал Фроим о манерах ЧК и от бандита Миши Яблочко, может, что-то выпытавшего у агента ЧК в мафии Пескина перед тем, как его убить:
“Фроим,- произнесла старуха [переодетый Миша Яблочко]... - я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах [видимо, в погребах ЧК]... как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью...”
Да ЧК и не таила стиля своей работы. Чтоб нагнать страх. Фроим знал, что живых бандитов в ЧК нет.
Что же тогда означает торг Фроима: “Отпусти моих ребят”? Он означает предложение отпустить еще не пойманных налетчиков на мнимо гонимый бандитизм - за мзду, как это было при царе, как это бывает в иных демократиях, где мафия подкармливает правоохранительные органы, которые,- если умны и не переборчивы,- понимают, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. Кто же, мол, будет подкармливать ЧК, если оно останется с робким смитьем, не решащимся на грабеж подвластных и на подкуп законной власти.
Так как: Фроиму не повезло - в том, что Симен оказался неподкупным? Или никакой он не мудрец, Фроим? Не умеет судить о людях иначе, чем по себе: если по его мировоззрению все продается и покупается, то других мировоззрений и нет - среди неглупых. А ведь на его глазах победительно шла революция, вдохновлявшаяся великой надеждой покончить с несправедливостью. И можно ж было ожидать, что на страже такой революции идейно преданных побольше, чем в царской полиции. Никакой Фроим не мудрец?
Или он сознательно пошел на смерть, утверждая этим свою философию жизни? Живи, мол, сам (разбоем) и давай (подкупом) жить другим (законной власти). А иначе - лучше, мол, смерть. Почти ницшеанец. Трагический...
Описание бандитов в рассказе действительно носит черты трагические.
Дела налетчиков плохи: их расстреливают, ЧК к ним внедрило шпионов. Миша Яблочко еще пытается, по инерции, хорохориться. Он не просто расстрелял своего приятеля, Арона Пескина, осведомителя ЧК, но и привез умирающего к нему домой, усадил его во дворе за стол, доложил жене (“Он отдыхает в палисаднике”), попрощался с ней и потом только уехал. Будто он хозяин положения. Но мы-то знаем...
Или вот. Его сообщников по убийству Пескина ЧК в ту же ночь арестовала и расстреляла после недолгого допроса. Миша Яблочко ушел из засады. Но тут же осмелился появиться в городе опять, да как! - вызывающе загримированным:
“...на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее, мохнатым угольным кустом, была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком”.
Все нипочем. Бравый парень - Миша Яблочко. Орел. Совсем не похож на загнанного волка.
“Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.
- Барышни,- сказал им Миша Яблочко [загримированный под старуху],- я не угощу вас чаем с семитатью...
Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь”.
Это символ прощания со своим городом.
И Бабель совсем в этом рассказе не выставляет своих героев,- героев даже и в прямом смысле слова (их борьба - с превосходящим их противником), нигде он здесь не показывает натурально безобразными. Сам Фроим выглядит богатырем:
“Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы его дочери Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот схватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.
- Ты - чепуха... - сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом”.
Или еще:
“... и комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой”.
Безмерная жизнь - а будет уничтожена.
И экскурс Бабеля в пейзаж - это образ прощания Грача с жизнью:
“Фроим Грач остался один на своем дворе.
[После ухода Миши Яблочко, призвавшего Фроима к реагированию на ЧК... Внук по воле автора испарился... Перед лицом смерти каждый остается один.]
Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков.
[Жить бы и радоваться...]
Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу.
[Далее идет перечисление улиц - опять символ прощания с городом.]
Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымком своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернувшись в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрицы и вошел в здание Чека”.
Там он предложил безнадежный торг и был убит.
Знал, на что шел. Ницшеанец. А Ницше-то уж точно боготворил аристократию. Чем, казалось бы, не сверхзадача рассказа, не образ мечты о еврейской аристократии, трагический образ: герой умирает - дух его остается жить?
Тем, что ницшеанец любит смерть как таковую, а не смерть во имя жизни. Ницшеанец любит жестокость саму по себе, а не как средство. Аристократ не пойдет на торг.
Чтоб совершить преступленье красиво,
Нужно суметь полюбить красоту.
Или опошлишь избитым мотивом
Смелую мать наслажденья, мечту.
Часто, изранив себя безнадежно,
Мы оскверняем проступком своим
Все, что в могучем насилье мятежно,
Все, что зовется прекрасным и злым.
Но за позор свой жестоко накажет
Злого желанья преступная мать,
Жрец самозванцам на них не покажет,
Как нужно жертвы красиво терзать.
Ф. Ницше
Никаких не аристократов трагедийно возвышает Бабель в рассказе “Фроим Грач”. Ему безумно жаль людей, живых людей, которые из-за своего радикализма сталкиваются с другими радикалами и - уходят из жизни. Упрямство на упрямство - это очень печально.
В рассказе есть совсем, вроде, ненужные персонажи: жена и дочь Пескина. Но и они нужны Бабелю, чтоб огорчиться: как на всех уровнях люди, в своем упрямстве, едят поедом друг друга:
“... мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь... хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны...
-... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову...”
Такая же непрерывная склока и вообще в отношениях мадам Пескиной со своим мужем. Как коса на камень - и общение Пескина с Мишей Яблочко.
“- Приветствую,- сказал Миша, снимая шляпу...
[Это он привез умирающего Пескина к жене. Пескину бы поддаться Мише, может, остался бы жив...]
...мы бесподобно провели время. Воздух - это что-то незабываемое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.
- Вы нашли кому рассказывать,- произнесла мадам Пескина... где он, этот авантюрист?”
А зачем совершенно проходные, уже упоминавшиеся три девочки с заплетенными косицами? Это образ возможностей, которые нельзя будет Мише в будущем использовать из-за злой сегодняшней жизни.
“- Барышни,- сказал Миша Яблочко,- я не угощу вас чаем с семитатью...
[И предложение-то оборванное... как жизнь...]
... Он насыпал им в карман семечек из стакана и исчез...”
Какой уж тут реквием аристократу, пусть даже и аристократу Молдаванки. Это реквием человеку.
А этот маскарад Миши Яблочко и роба на этом здании-человеке, Граче,- это аристократизм? Это сила жизни. Которую до слез жаль, упрямую.
“Соскучившийся следователь...
[Представивший Грача Владиславу Симену и сообщивший, что такое Грач среди одесских бандитов.]
...отправился на поиски. Он обошел все здание [ЧК] и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там, распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.
- Чисто медведь,- сказал старший, увидев Борового [следователя],- это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...
Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.
- Мелешь больше пуду,- прервал его другой конвоир,- помер и помер, все одинакие...
- Ан не все,- вскричал старший,- один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...
- У меня они все одинакие,- упрямо повторил красноармеец помоложе,- все на одно лицо, я их не разбираю.
Боровой наклонился и отвернул брезент.
Гримаса движения осталась на лице старика”.
Во имя жизни, да не жизни идей каких-то, а просто жизни, написан рассказ. Против смерти, высекаемой из столкновения крайностей жизни.
С этой сценки начинает развертываться вторая трагедия: не бандитов, а ЧК, советской власти, не сумевшей перейти на мирные рельсы после победы.
У конвоира постарше (он покрепче) - предельное возбуждение, у младшего - запредельное, то есть уже торможение, от ужаса их работы палаческой. У Борового - депрессия. И только Владислав Симен (специально оговорено, что ему исполнилось двадцать три года) одержим еще и не чувствует беды.
“
Они сели рядом...[Боровой и Симен.]
...председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей и пожимал ее.
- Ответь мне как чекист,- сказал он после молчания,- ответь мне как революционер,- зачем нужен этот человек...
[Грач.]
...в будущем обществе?”
Конечно же Номер Три прав: “Фроим Грач” - антитоталитаристская вещь. Он не прав лишь, что она про-, так сказать, национально-аристократическая. И он не прав, что Бабель всю жизнь такое имел в виду, мол,
“
...главного я сказать не могу”.“Фроим Грач” написан через десять лет после тех новелл, начиная с которых Бабель исчислял свою литературную работу. А в них он начал с выступления против экспорта революции, против ультрареволюционеров, против крайностей. Там еще не было антитоталитаризма. И нельзя их смешивать с рассказом “Фроим Грач”.
Слова о власти у царского пристава и председателя ЧК действительно похожи. Но в “Короле” их произносит безнадежный идеалист-дурак. Потому безнадежный, что он - из последних могикан-идеалистов в прогнившей царской империи. А в “Фроиме Граче” эти слова олицетворяют инерцию только-только победившей революции, революции, которую сделали миллионы и которая победила четырнадцать государств, помощников контрреволюции. Неисчислимые тысячи могли повторить за Сименом его слова, как свои.
Номер Три иронизирует по поводу неосуществленного плана Бабеля написать роман о чекистах, связывая это с бабелевскими же словами, что “чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди”:
“...писатель опасался, как бы не получилось приторно”.
А ведь в каком-то смысле Бабель свой план выполнил. Ведь про его новеллы, как про рассказы Чехова, можно сказать: “крошечный рассказик поднялся до высоты эпического повествования”. Пескин, два конвоира, следователь Боровой и председатель одесского ЧК Владислав Симен - это целый спектр чекистов. И у каждого - своя святость. Пескин прокатался с Мишей Яблочко, Колей Лапидусом и Грузином на штейгере с утра до вечера, и можно догадаться, что это было за катание и какой “надоедливый” характер проявил Пескин в верности ЧК, революции и ее идеалам. ЧК в революции - как инквизиция в католичестве. А ведь последнюю, кажется, называют святой. И разве это не мучение - убивать такое воплощение силы жизни, как громадину Фроима Грача? Видно, сильна вера, раз удается-таки преодолевать нешуточное мучение. А перековка Борового... Этот, видимо, как военспец в армию, привлечен в ЧК из царской следовательской службы. Он досконально знает еще дореволюционные дела бандитов. Он, как профессионал своего дела, с восхищением относится к профессионализму своих подопечных: “изворотливости”, “неуловимости”. Но под влиянием высших моральных ценностей революции - построить царство вечной справедливости на земле - и он приобщается к этой священной войне, к этому джихаду и начинает вносить не только профессиональное, но и моральное в оценку бандита:
“Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова стал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему...”
А о святых мотивах Владислава Симена и говорить нечего. Впрочем, для особо непонятливых приведу цитату из такого воинствующего критика Октябрьской революции, изгнанного из СССР, как Бердяев: “Принципы демократии годны для мирной жизни, да и то не всегда, а не для революционной эпохи. В революционную эпоху побеждают люди крайних принципов, люди склонные и способные к диктатуре. Только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии”. А описывается-то Бабелем лишь второй месяц победы советской власти в Одессе. Сорок тысяч бандитов в тюрьму не посадишь, даже если поймаешь.
Если быть непредвзятым, то увидишь, что Бабель достаточно хорошо последовал совету Чехова писателям “выбрасывать себя за борт”: ни бандитов не охаял, ни чекистов.
Почему он это сделал?
Да потому же, почему и Чехов поступал. Чехов разочаровался (правда, не очаровавшись) высоким идеалом крестьянского социализма и, застав при своем вхождении в литературу крах народников, он не очаровался и охранительной реакцией на “хождение в народ”, на терроризм; не очаровался Чехов, так сказать, низким идеалом. Он был уверен в ценности чего-то среднего. Но чего? Он не знал. Он лишь показывал методом от противного, мол, хорошо не то и не то. “Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист”,- писал он в письме в 1888 году. Такой подход требовал нейтральности автора в художественных произведениях своих. Но не только. Он требовал разносторонности, выпуклости в показе жизни, то есть принципиальной емкости письма. А отрицания, неразвивание своей положительной идеи объясняют отсутствие у Чехова романов. Его принцип “выбрасывать себя” увлекал его в драматургию.
Точно так же было и с Бабелем. Только вместо народников тут были большевики, вместо терроризма - тоталитаризм и так далее.
И Бабель сумел сказать, между строк, как и всегда в настоящем искусстве (так, чтоб это в нас родилось) то, что было смертельно опасно. Как факт, публикация рассказа “Фроим Грач” была убита. Впервые он был напечатан лишь на излете так называемой оттепели, в 1964 году.
А теперь судите сами, кто прав насчет рассказа “Фроим Грач” - Номер Три или я. Номер Три утверждает, что Бабель отрицал экстремизм большевиков ради утверждения экстремизма национально-освободительного, национально-аристократического. Я доказываю, что Бабель отрицал экстремизм большевистский во имя неэкстремизма, во имя гармонии, во имя среднего. Теперь судите сами.
* * *
Номер Четыре, прочтя мое “Открытие Бабеля для себя...” дал такое замечание:
- Я тоже задумывался, зачем Бабель в персонажи “Одесских рассказов” брал только таких евреев, что похуже. Я объясняю это так. Русский при царизме, когда получал образование, превращался в разночинца: врача, учителя и т. д. Его уровень жизни при этом сразу становился существенно выше уровня жизни той, более низкой среды, скажем, крестьян, ремесленников, откуда он подымался в разночинцы. Евреям же при царизме почти не было ходу. А образованность - гуманитарная, богословская - у евреев была распространена. Она, однако, не влияла на уровень жизни. Образованный человек, среди евреев не редкий, на вид был, как и большинство бедных ремесленников-евреев, едва ли не дно российского общества. Из-за этого евреи в целом со стороны казались отталкивающими. Среди них не различали слоев. А писал-то Бабель - в СССР - для всех. Вживаясь в этих всех, еще помнивших царизм, Бабель и подбирал сниженный еврейский типаж.
Я молчал и думал. Типаж... В реализм косит товарищ, да не в какой-нибудь, а в тот, который гордится социологизмом.
А Номер Пять обобщал:
- Вы заакцентируйте, что ужасные люди произошли от ужасных условий, и к вам перестанут цепляться.
Номер Шесть, наоборот, косил в романтизм.
В его распоряжение попала неопубликованная Бабелем рукопись новеллы “Закат”, которую Бабель, мол, как раз потому и не опубликовал, что она была, понимай, в духе критического реализма и не соответствовала романтическому, мол, пафосу “Одесских рассказов”. А с другой стороны, Бабель, мол, работая над этой новеллой вышел, понимай, на так называемый социалистический реализм и превратил новеллу в пьесу “Закат”, и - новелла стала обречена на неопубликование. Так, сравнивая реалистическую новеллу “Закат” с романтическими, мол, “Одесскими рассказами”, Номер Шесть пишет
:“Система острых, порой гиперболических тропов в новелле “Закат” - иная, ибо подчинена другим задачам. Она нарочно снижена, огрублена. Не “сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью” (“Отец”), а закат “воцарился в небе, густой закат, как варенье” (“Закат”). В “Короле” факелы налетчиков как “девять пылающих звезд зажглись на дворе Эйхбаума”. Перед окном Криков в новелле “Закат” звезды рассыпались по небу, “как солдаты, когда они оправляются”
.И Номер Шесть резюмирует:
“
Условный... романтически стилизованный мир “Одесских рассказов” - прихотливая и странная мечта слабости о силе, мечта тоскливого крохоборческого существования о яркой, праздничной, нерасчетливой жизни. Мечта человека, социально и национально униженного, о справедливости... она не горестная у Бабеля, эта романтика. Она радостная, карнавальная не только по тональности,- но и по необыкновенности “превращений” героев и событий”.Вот так. Кто - за реализм Бабеля, кто - за романтизм. А я ни за то, ни за другое. Но прежде, чем ввязаться в борьбу с толкователями Бабеля в духе того или другого “изма”, я должен поставить вас, читатель, в курс собственной системы каких бы то ни было “измов”.
Я уже вам ее излагал в ее зачаточной форме. Помните? В “Открытии Бабеля для себя...”. Расположение авторов в два столбца. Слева - воспевающие героическое, активное, справа - обыденное, пассивное... Помните? Теперь необходимо ознакомить с этой системой в ее развернутом виде.
В зависимости от внутренней логики и внешних событий художники (один за другим, или один и тот же, но изменяющийся) исповедуют идеалы, плавно переходящие друг в друга, а потом и повторяющиеся - через большой отрезок времени. То есть идеалы меняются как бы по кругу. Еще лучше изменение идеалов во времени иллюстрируется синусоидой, причем с инерционными вылетами вон с синусоиды в местах перегиба.
В эпохи перелома, где кривая расщепляется, одни художники (приспособленцы или просто лабильные) поворачивают по синусоиде и сочетают крайности в своем мировоззрении. Другие художники, мировоззренчески несгибаемые, в эпохи перелома выносятся в экстремизм.
А теперь посмотрите, где помещают Бабеля Номер Три, Номер Четыре, Номер Шесть и я (имеется в виду характерный Бабель, а не - поверим Номеру Три - Бабель, сценарист “Бени Крика”, и не - поверим Номеру Шесть - Бабель, автор неопубликованной им новеллы “Закат”).
После этого микроэкскурса в теорию можно вернуться к нашим “измам”.
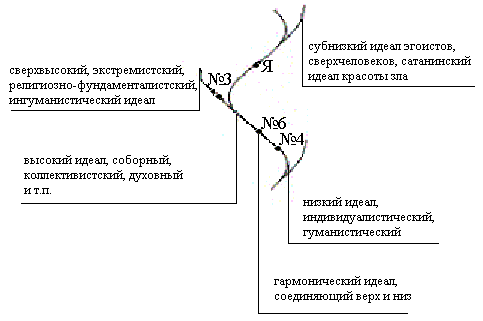
Реализм.
Выведения ужасных людей из порождающих их ужасных обстоятельств у Бабеля просто нет.
Так, в “Конармии” его ужасные красноармейцы - все больше выходцы из казаков, среднего сословия в царской России. Их приспособленность к войне, их жестокость - по отношению к пленным, к мирному населению, друг к другу - показаны скорее как врожденное свойство, чтоб оправдать его скорее будущим, чем прошлым. А (вспомните разбор “Соли” из “Открытия Бабеля для себя...”) “убедительность” Балмашева, обосновывающего жестокость настоящим, войной (вспомните, вспомните), это ж убедительность в кавычках, нас не убедившая в социологической правоте Балмашева, а, наоборот, уверившая, что он, насильник, озлился, что его занесло в благородство, а зря, и потому он убил женщину.
Далее. В “Одесских рассказах”, например, нет ни одного опустившегося человека, зарабатывающего себе на жизнь своей образованностью. Не считать же опустившимся, в "Пробуждении", учителя музыки Загурского:
“По цементному дворику в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбившимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель... Загурский подходил к парадной двери”.
Все. Больше о Загурском нет ни слова.
Не считать же опустившимся, в “Истории моей голубятни”, учителя древнееврейского и по торе Либермана:
“Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: “виват!” Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке”.
И больше о Либермане нет ни слова.
Совсем, как видите, не сниженный типаж - Загурский и Либерман.
Правда, кошмарно выглядит образованнейший (у него “грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда”) Лейви-Ицхок “с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах” из рассказа “В подвале”:
“Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах”.
Ну так зато этот дед еще давным-давно, может, в молодости, был изгнан из раввинов и вообще из своей общины за совсем невероятный для священников поступок - подделку подписи. Это типично для служителей культа? - Опять нет типизации и, значит, реализма.
Или наоборот. Разве беден был Фроим Грач, если он планировал все налеты, или бедна Любка Казак, если у нее был постоялый двор, каменоломня, публичный дом и прочая и прочая, или Мендель Крик с его двенадцатитысячным извозопромышленным предприятием? Это ж, что называется, средний класс. И их ужасность не выведешь из ужасных условий жизни.
Просто у Бабеля стереоскопический взгляд в характерных его произведениях. Он во всем низком видит еще и высокое, а в высоком - еще и низкое. “Сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью” - это (вспомните мой разбор рассказа “Отец”) вмешался авторский голос, чтоб как-то, после впечатления от безобразно огромной и грубой Баськи приподнять вас, читатель. А в “Короле” “девять пылающих звезд зажглись на дворе Эйхбаума” - это в словах от неназванного по имени “полуписьменного” рассказчика, обожающего Беню Крика, Короля. Этот рассказчик наделен автором явным литературным талантом. Это, можно сказать, неназванный вездесущий Арье-Лейб рассказывает про свадьбу Бениной сестры и про Эйхбаума...
“Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история”.
Здесь “автор” (в кавычках) почти заявляет себя говорящим.
Или вот - мог бы так выразиться от своего имени Бабель-писатель:
“И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека”.
Писатель бы выразился: “если стрелять не в воздух”.
Ясно, что в истории ограбления Эйхбаума Бабель устами своего не названного рассказчика возвышает такое низкое дело, как грабеж.
Зачем? Для все того же внушения нам третьего - заветной для писателя золотой середины. Она вдохновляла его. И он творил во имя самовыражения и во имя художественного сообщения нам этой заветной идеи.
*
И ради нее он в другой вещи одесского цикла, в новелле “В подвале” всех, рвущихся ввысь, из грязи в князи, или уже достигших всего, - охлаждает для нас. И делает это авторским голосом, внедренным в слова рассказчика, названного “я”, являющегося, мол, тем, кем был автор в детстве.
Только здесь, в единственном рассказе (из всего цикла), есть настоящий аристократ из евреев. И что? Так он морально грязный:
“В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка... Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир - последний из одесских негоциантов - завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягощавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого”.
Главный герой, от имени которого (от первого лица) ведется рассказ, двенадцатилетний мальчик, приглашен на дачу в начале лета. Значит, после “двухмесячной интрижки”, начавшейся в апреле. До посещения дачи мальчик банкира не видел. Спрашивается, откуда он знает про интрижку, колье? Сын банкира ему сказал? Сомнительно, чтоб сын это знал - раз. Два - не в таких уж они отношениях, двое мальчиков, чтоб рассказал, даже если знал. Ребята общались на основе общего интереса к книгам и всему высокому.
Значит, в этом отрывке слышен голос автора. Он здесь говорит, и не устами мальчика, не из времени действия рассказа (до революции), а “сейчас”, в 1930 году, из времени написания рассказа.
Бабель-автор ровным тоном своего замечания (о чем!) о безобразии (кого!) аристократа внушает нам свою Великую Снисходительность к людям. В данном случае - к последнему из одесских негоциантов. Ну что, мол, с него взять: уходящий класс. Это ж тоже есть проявление исторического оптимизма автора-прокоммуниста, для которого коммунизм это будущая всяческая гармония.
Но это идеал гармонии не на восхождении, не когда началась открытая борьба за этот идеал и было не до снисхождения к врагам. Это идеал гармонии не на восходящем, не на революционно-романтическом изгибе синусоиды идеалов. У Бабеля - идеал гармонии на нисходящем изгибе, уже послереволюционном, уже после победы над врагами, когда можно уже и снизойти к их человеческим слабостям. И вот уходящий класс и представитель его, одутловатый старик, прощен нами под влиянием умиротворенного и умудренного автора.
А Бабель-человек, очень молодой человек, “двенадцатилетний несмышленыш”, “я” рассказа является экстремистски заносящимся ввысь. И потому выставлен здесь не менее иронично, чем любые моральные и физические уроды.
В чем это проявляется? В обильном цитировании из какого-то произведения белых стихов в классическом духе. Цитирование это так длинно, что - уверен - вряд ли кто из читателей рассказа дочитал их до конца.
Ясно, зачем это. Заносящегося вверх на барочном скате синусоиды идеалов надо одернуть. Да здравствует середина.
Бабель этого малолетнего “я”, верный себе, выставляет - во имя гармоничной середины - даже неким уродом:
“Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено”.
Это ненормально. И так начинается рассказ: вот этой ненормальностью, аномалией.
Другой аномалией является по рассказу большая чувствительность мальчика. Ответное приглашение главным героем, “я”, сына Боргмана к себе, в подвал,- куда несмотря на мальчиковы ухищрения вломился считающийся среди детей сумасшедшим урод-дед Лейви-Ицхок и сумасброд дядя Симон-Вольф,- кончилось бегством Боргмана-младшего и последующей попыткой главного героя утопиться в бочке с водой. Чем не аномалия?
И тут осаживает внука далеко не сумасшедший дед.
“Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.
- Мой внук,- он выговорил эти слова презрительно и внятно,- я иду принять касторку, чтоб мне было что принесть на твою могилу...
[Само построение этой фразы о поносе на могиле не есть ли издевательство над высоким стилем классики, увлекающей внука.]
Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда”.
Все метания вверх и вниз кончаются облегчающими душу слезами мальчика.
Но чтоб вы все же не подумали об этом рассказе, как написал Номер Шесть обо всех “Одесских рассказах”, что он о мечте, чтоб вы не подумали, что здесь фанатичный порыв вверх и только, чтоб не подумали, что здесь романтизм, я напомню вам еще - последние слова рассказа, всегда очень значительные:
“Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался”.
Что это за люди - дед Лейви-Ицхок и дядя Симон-Вольф? Романтики. Дед со своими залетами вылетел вон из раввинов и всю жизнь описывает тех из своего окружения, кого называют “вздорные люди”. И книга его (дед пишет) называется соответственно - “Человек без головы”. А дядя - в ту же степь. Тяготится будничной работой:
“...Работа отбила у меня душу...”
и все рвется из грязи в князи, нерасчетливо покупая аристократическую - по его понятиям - мебель. Вот и в рассказе - за деньги, данные племянником в надежде, что он несколько часов их будет пропивать и тем избавит барчонка-визитера Боргмана от своего общества, Симон-Вольф немедленно купил оленьи рога, принес их домой и тем сорвал визит.
И вот оба эти горе-романтики затихают, успокаиваются и наступает умиротворение после очередного романтического всплеска.
И никакой объективной необыкновенности событий (на которую ссылается Номер Шесть, выводя романтизм “Одесских рассказов”) в этом рассказе нет. Домашний скандал. И все
.Есть, правда, такая неординарность, как попытка покончить с собой. Но посмотрите, она описана так обыденно, что едва понимаешь, о чем речь:
“С уходом Марка [Боргмана] улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых по моей милости [к ним мальчик его спрятал от Боргмана] провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал больше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел”.
Дальше вы знаете. Честное слово, я не с первого чтения понял, что здесь речь шла о попытке утопиться.
Лишь субъективно здесь, в рассказе, - все порывы, порывы. А хладнокровный голос автора все время вторгается в повествование, мол, мальчика и - делает свое отрезвляющее дело.
“ О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.
Так начинает Антоний. Я задохся и прижал руки к груди”.
И подобным образом, как из ушата - холодной водой, то и дело обрывает автор воспарения своего героя.
“Перед моими глазами - в дыму вселенной - висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку,- глаза Боргмана покорно двинулись за ней,- сжатый кулак дрожал. Я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору...”
Хватит. Доказано, думаю: Бабель в характерных своих произведениях не романтик и не реалист.
* * *
Я, однако, сумел увидеть некую оппозицию себе и в статье критика (назовем его Номер Семь), помещающего Бабеля, на мой взгляд, в ту же точку синусоиды, что и я. Он, правда, не ведает о синусоидальном законе изменения идеалов искусства, это сказывается на некоторой нечеткости его замечаний. Но я их для вас, читатель, перескажу почетче.
Номер Семь разбирает рассказ “Пан Аполек” из “Конармии”. Он с блеском доказывает и по этому рассказу и по другим из того же цикла, что рассказчик - журналист Лютов - хотел бы усвоить себе всепрощающий умиротворенный идеал художника Аполека, да это ему не удается: слишком в страшное время он живет (война), чтоб суметь отрешиться от страстей, так и сяк раскалывающих людей в 1920 году на враждующие лагеря.
Поскольку то, к чему хотел стремиться Лютов-рассказчик в преамбуле к “Пану Аполеку” названо словами “укрытое от мира евангелие” и в преамбуле же дважды повторено слово “обет”, постольку о том, от чего Лютов-рассказчик хочет и не может отойти, Номер Семь отзывается тоже в религиозных терминах:
“Мироощущение избранничества, разобщающее единство человеческого рода, которое еще доминирует в Ветхом Завете... Ветхозаветная мораль непримиримости и составляет глубинное содержание старого “обета”, от которого отрекается рассказчик [да ненадолго, как ненадолго действует опьянение: “Прекрасная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино”
]”.У Лютова-рассказчика, таким образом, оказывается два лика: один - какой он хотел бы иметь (аполековский), другой - какой он способен иметь (непримиримый). И Номер Семь кончает разбор труднопостижимой фразой:
“...автор...
“Конармии” берет на себя ответственность за рассказчика и связанную с ней вину [видно, соскальзывание в лютую жестокость Лютова], эстетически объединяя два разрозненных лика Лютова”.Я б сказал: Лютова-рассказчика тянет вверх, Аполека - вниз, а в нас автор организовывает переживание ценности чего-то среднего, чем и сам Бабель (после войны)
вдохновлен как автор цикла, но не как человек, в жизни (во время войны) писавший зажигательные агитки в конармейскую газету под псевдонимом Лютов.Что движение по шкале идеалов от идеала Лютова-рассказчика и подобных неистовых до идеала пана Аполека это есть движение вниз, иносказательно, но проговаривается и сам Номер Семь:
“Это движение от Ветхого Завета к Новому, и от него - к “обету” Аполека, где антропоцентризм достигает своего последнего, но потому и этически опасного предела”.
Художник Аполек по-импрессионистски считает, что жизнь хороша - любая, и, значит, идеал достижим сегодня, каждым, пребывая в том качестве, в каком каждый сегодня есть. Поэтому Аполек любого шалопая и подонка может изобразить в виде святого:
“...узнали на церковной росписи в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине - еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей”.
То же после первого аполековского дебюта в Новоград-Волынске случилось и во множестве хат: Аполек писал крестьянам на заказ одиночные и семейные портреты в виде святых, тайной вечери, Иисуса, Иуды (если заказчики хотели изобразить и своего врага) и т. д., и крестьяне вешали эти произведения, как иконы - в красных углах.
Те, кто считал, что идеал достигается нелегко (прежде всего духовники фундаменталисты) справедливо возмущались:
“ - Он произвел вас при жизни в святые!- воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека.- Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!”
Но все-таки Аполек придает атрибуты святых портретируемым. Это сбивает Номера Семь:
“В художественном мире произведения “новый обет” - это возвышение каждого отдельного человека над собственными слабостями и пороками, нахождение Бога, святости в каждой человеческой личности”.
В такие минуты Номер Семь как бы помещает Аполека на середину синусоиды идеалов.
На какую ветвь? На ветвь, восходящую к идеалам высоким? На революционно-романтическую? Или на ветвь реакционно-романтическую, спускающуюся к идеалам низким, барочную, иными словами?
“...это не антропоцентризм романтического “гения”, возвышающегося над “толпой”, служащей ему лишь выгодным фоном...”
Значит, на первую.
На самом деле Аполек не возвышает портретируемых, а потрафляет заказчикам, опуская до них свое искусство. Христиан он рисует в виде святых, а еврейке, пани Брайне Шмерль (иудаизм запрещает изображать Бога и его приближенных), Аполек обещает совсем другое:
“...я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...”
То есть Аполек не возвышает (помня шкалу идеалов от “высоких” к “низким”). Он - как голландские реалисты ХVII века, писавшие натуру так, что, например, если изображали полуочищенный лимон, то у вас, при взгляде, слюнки могли набежать. Сам Номер Семь аполековские собственно картины так же характеризует:
“Изумленный патер “увидел на своем столе...
[Это Аполек тридцать лет назад пришел в Новоград-Волынский и пошел в костел устраиваться церковным живописцем, предъявив свои работы]
...на своем столе горячий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины”. Как видим, “на столе” патера оказываются словно не изображения мантий, полей, равнин, а сами эти реалии... После получения Аполеком заказа на роспись костела “уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях... качались тучные младенцы”. Перед нами вновь как бы не изображение расписанной художником церкви... Не случайно первым фактом читательского сознания становится деталь не видимого, а слышимого...
“храм был полон блеяния стад”. Аполек как бы заполняет храм вполне реальными стадами, буйволами, собаками, младенцами”.Это все аналогия описания картин голландских мастеров ХVII века,- признайте, кто их знает,- художников, воспевавших достижимый идеал нидерландских бюргеров, отвоевавших дамбами землю у моря, независимость (страна была колонией) у феодальной Испании. Идеал народа, впервые в мире целым народом вкусившего плоды сытости, обеспеченные новым, установленным ими общественным устройством - капитализмом.
Давайте сравним это описание с описанием барочных (тоже ХVII века) картин Рубенса, представителя побежденной Испанией Бельгии, Рубенса, не отвергавшего напрочь иезуитских залетов ввысь, но и совсем не чуравшегося ценностей тела, Рубенса, соединявшего несоединимое, как его побежденная родина, практически уже тоже капиталистическая, чувствующая, что не мытьем, так катаньем, экономически, она от колониальной власти феодальной Испании избавится.
“Шествие на Голгофу”:
“...Христос изнемогает от усталости; св. Вероника отирает ему лоб; Богоматерь в слезах бросается к нему протягивая руки; Симон Киренеянин поддерживает крест. Перед нами орудие бесчестья, женщины в трауре и в слезах, приговоренный к смерти, ползущий на коленях, задыхающийся, с влажными висками и блуждающими глазами, внушающий сострадание всем своим видом. Ужас вопли, смерть, витающая в двух шагах. И тем не менее всякому, имеющему глаза, ясно, что эта пышная кавалькада, эти знамена, развевающиеся по ветру, этот центурион в латах (в нем легко узнать черты самого Рубенса), откинувшийся на коне с гордым жестом,- все это заставляет забыть о казни и вызывает несомненное представление о триумфе...” (Эжен Фромантен).
Правда, что Аполек - не Рубенсу подобен? Идеал у Рубенса - в историческом будущем (как Христос воскреснет - так Бельгия освободится), идеал же и старых голландцев и пана Аполека - в настоящем.
Итак, вернемся. Аполек тянет вниз. Лютов - вверх - в мировую революцию. И если вспомнить, что в движении между “обетом” Аполека и Ветхим Заветом Номер Семь ставит Новый Завет, если вспомнить, что, по словам Номера Семь, автор “Конармии” что-то берет на себя, эстетически объединяя два разрозненных лика Лютова, то создается впечатление, что, мол, идеал Бабеля-автора есть прощенческий - идеал Нового Завета.
Вот бы осерчал Номер Три и Номер Два, прочитай они Номера Семь. Люди моды... У одних сейчас в моде Израиль, у других - сейчас же - Новый Завет... А во времена Бабеля в “моде” был коммунизм, понимаемый как земное царство всяческой гармонии, в том числе - высокого с низким.
Бойцу Первой Конной, писавшему в армейскую газету под псевдонимом Лютов, после войны принявшемуся писать рассказы под фамилией Бабель, если подходить исторически, совсем не нужен был идеал Нового Завета.
* * *
Когда оценивающий читатель и оцениваемый писатель исповедуют идеалы из, так сказать, разных ветвей синусоиды идеалов, тогда для ценителя характерно не признавать ценность писателя, или его на свой лад переиначивать, или не понимать его. Не понимать - целиком или самые острые произведения.
Номер Восемь, сам неоромантик в молодости и вообще чувствительный к идеалам “восходящей ветви синусоиды”: от критического реализма до неоромантизма, - пока Бабель снисходительно описывал ужасные, старорежимные по происхождению общественные низы,- Номер Восемь еще воспринимал Бабеля, как родного:
“Задача “большого” искусства: показать людей во всей их сложности - дело психологов, или определенно отвратительными - дело критиков-реалистов, или даже вызвать уважение и симпатию к людям - романтизировать их”.
Исторический оптимизм, питающий снисходительность Бабеля, он понимал как романтизм.
Однако, исторический оптимизм не лишен горечи и печали о сегодняшнем дне. Это как в конце бабелевского рассказа “Пан Аполек”...
“По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни”.
Революционная, конфронтационная эпоха в стране, инерционно и противоестественно затянувшаяся со сталинщиной, то и дело отвергала от себя мирителя Бабеля. И когда он по-чеховски стал все больше акцентировать ускользающую недостижимость своей усредненной, гармоничной мечты, когда он по-чеховски же совсем
“выбросил себя за борт”, дав говорить только героям (в пьесе “Мария”), когда он (в той же “Марии") сменил типаж, и ужасные старорежимные низы, оптимистично рассматриваемые из послереволюционного времени, сменились ужасными же разгромленными революцией старорежимными верхами,- тогда Номер Восемь Бабеля совсем не понял, подумал, что тот сделал нечто нехудожественное от безыдеальности:“...В целом, пьеса - холодная, назначение ее неопределенно, цель автора неуловима...”
Так еще если бы Бабель своих ужасных аристократов просто отрицал, Номер Восемь бы это принял:
“... показать людей... определенно отвратительными - дело критиков-реалистов...”
Но Бабель-то их не просто отрицает. Он внимательно фиксирует, как они отрицают сами себя. Из-за того, что он замечает чрезвычайные тонкости, становится ясно, что он неравнодушен. Неравнодушен, по крайней мере, к тому, что называется “аристократ духа”. И - Номер Восемь ему отказывает в понимании.
Смотрите на действующие лица пьесы “Мария”.
Действие развертывается вокруг семьи царского генерала Муковнина. Аристократия приспосабливается и “приспосабливается” к революции.
Наиболее адекватно приняла революцию, простив ей убийство (мужа, наверно) Алексея, старшая генеральская дочь, Мария. Может, определяющим - после убийства - явился неудачный роман ее с бывшим князем Сергеем Илларионовичем Голицыным, может, увлеченность красным комдивом, бывшим кузнецом, Акимом Иванычем. Но факт тот, что она ушла добровольцем на фронт, в Красную Армию и, работая в политотделе, приносит там явную пользу, самовыражаясь. Мария единственная не терпит крах в ходе действия. Зато, в соответствии с “неисполнимостью мечты” Бабеля-автора о соединимости несоединимого, она не присутствует на сцене. От нее приходит лишь письмо и посыльный с продуктовой передачей.
Сомнительнее приятие революции генералом. Он пишет историю русской казармы. Насколько в ней освещена аракчеевская жестокость к солдатам, настолько она приемлема для прагматиков большевиков. То, что эта жестокость квалифицируется Муковниным как ошибка, а не закономерность крепостничества, не может быть принято революцией и, символично, Муковнин революционных передряг не выдерживает, умирает. Внешне - его слабое сердце старика не выдерживает вести, что вторая дочь, Людмила, заражена гонореей и арестована. Но внутренне...
“К у з ь м а. Старый был?
А н д р е й. Особо старый не был.
К у з ь м а. А помер...
А н д р е й. Помирает, брат Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел”.
Совершенно не поняла революцию Людмила:
“К а т я. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.
Л ю д м и л а. Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус: они хотят, чтобы женщина была изящна...”
Она решает выйти замуж за, мол, артельщика, а на самом деле - спекулянта Дымшица. Но тому она нужна лишь как замена шлюх. Финал - прискорбен.
Неудавшийся возлюбленный Марии, бывший князь Голицын, бежит от революции во внутреннюю эмиграцию. На физиологическое поддержание жизни он зарабатывает игрой на виолончели в трактире. Сама по себе музыка, никакая, его не услаждает:
“За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха...”
В этой жизни его уже ничто не занимает. Он примеривает к себе христианское самоотречение:
“Г о л и ц ы н (молится) ...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода...”
И как религия революцией отлучена от государства, так князь - не живет. Прискорбно.
Бывший прапорщик Яков Кравченко ныне - красный артиллерист в Кронштадте. Что-то его связывает со спекулянтом Дымшицем. И как взбунтуется вскоре против революции и падет Кронштадт, так не переживет революцию и колеблющийся Кравченко. Такова внутренняя логика его судьбы. Хотя внешне его колебания - на моральном уровне (он не противился подпаиванию Людмилы Висковским, не вмешивался, когда тот, трипперитик, утащил Людмилу, не владевшую собой, в отдельную комнату, а когда Висковский Людмилу заразил - пошел на конфликт с ним).
И, наконец, главное действующее (именно действующее) лицо - бывший ротмистр конной гвардии Висковский. Он теперь под началом у Дымшица. И вот в этом-то аристократе Бабель вывел поразительную черту - страдание в сатанизме.
Что такое сатанизм? Это впадание в еще большее зло в результате поражения от добра. А страдание во зле? Это ж некая апология добра!
Заметить такой нюанс мог или человек, полностью и бездумно сочувствующий страдальцу во зле или предельно непредвзятый. Бабель - второй.
Уже первое появление Висковского свидетельствует, что он не на пределе, а уже за пределом. Он влюблен в Марию, та его отвергла. Да еще, чтоб прожить, он, в прошлом конногвардеец, пустился в спекуляцию. Там тоже не получается. За все это можно возненавидеть себя, не только Дымшица и революцию.
“Входит Висковский - в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.
Д ы м ш и ц. Это вы?
В и с к о в с к и й. Это я.
Д ы м ш и ц. А где здравствуйте?
В и с к о в с к и й. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?
Д ы м ш и ц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?
В и с к о в с к и й. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла...
Д ы м ш и ц. Передали мне люди не обезьяны.
В и с к о в с к и й. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?
Д ы м ш и ц. Люди дали, чтоб продать.
В и с к о в с к и й. Продайте мне.
Д ы м ш и ц. Почему вам?
В и с к о в с к и й. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?
Д ы м ш и ц. Я всегда джентльмен.
В и с к о в с к и й. Джентльмены не задают вопросов”.
У Висковского последний порыв сделать что-то доброе: Дымшиц на этой продаже Муковниных ограбит, а он, помня Марию, нет. (Будто он может продавать. И будто у него есть за что покупать. Он от отчаяния забыл, что он этого ничего не может.)
“Д ы м ш и ц. Люди хотят валюту за кольцо.
В и с к о в с к и й. Вы должны мне пятьдесят фунтов.
Д ы м ш и ц. За какие такие дела?
В и с к о в с к и й. За дело с нитками.
Д ы м ш и ц. Которое вы просыпали...
В и с к о в с к и й. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.
Д ы м ш и ц. Вы просыпали потому, что вы горячий”.
А в настоящий момент он уже не горячий, а просто потерял всякое чувство реальности. Требовать расчет за проваленное дело...
И - начинается самоистязание... злом.
“В и с к о в с к и й. Дайте срок, маэстро, я научусь”.
Думаете, это серьезно? Так же серьезно, как Дымшиц - музыкант и маэстро. И Дымшиц не верит.
“
Д ы м ш и ц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое... На войне вы там ротмистр или граф,- я не знаю, кто вы там,- может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.В и с к о в с к и й. Слушаю-с”.
Эта самоуничижительная частица “-с”... Начинается некое самоистязание своей же низостью.
Собственно, началось оно до времени действия пьесы. Висковский не только подельщик Дымшица. Он у Дымшица (для Дымшица) еще и сутенер. И, предваряя будущие доказательства, можно сказать, что, издеваясь над собой, Висковский вел к Дымшицу самых чистых.
“Д ы м ш и ц. Я серчаю на вас, Висковский, я еще за другое на вас серчаю. Что это был за номер с княжной?
В и с к о в с к и й. Задумано, как побогаче.
Д ы м ш и ц. Вы знали, что она девушка?
В и с к о в с к и й. Самый цимис...
Д ы м ш и ц. Так вот, этого цимиса мне не надо. Я маленький человек, господин ротмистр, и не хочу, чтобы эта княжна приходила ко мне, как божья матерь с картины, и смотрела на меня глазами, как серебряные ложки... О чем шел разговор? - Спрашиваю я вас. Пусть это будет женщина, которая знает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеный хлеб и четыреста граммов какао для детей - и не сказала бы мне потом: “Паршивый мешочник, ты меня запачкал, ты мною воспользовался” ”.
Так княжна - та была за пределами пьесы. А сейчас, перед нами, Висковский предаст не только такую ценность, как девичья чистота и сословная солидарность, но и любовь.
Только что он хотел выкупить кольцо Муковниных, помня о своей любви к Марии. А сейчас предаст и это семейство.
“В и с к о в с к и й. Про запас остается младшая Муковнина”.
Интересно, продал бы он и саму Марию, будь она действующим лицом пьесы? Пока - нет, но тенденция ясна: он не отрицает категорически такую возможность.
“Д ы м ш и ц. Она [младшая Муковнина] врунья. Я не люблю женщину, когда она врунья... Почему вы меня со старшей не познакомили?
В и с к о в с к и й. Мария Николаевна уехала в армию.
Д ы м ш и ц. Вот это был человек - Мария Николаевна, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорить... Вы дождались того, что она уехала.
В и с к о в с к и й. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложно”.
Здесь, кстати, завязка интриги пьесы. Дымшиц, вопреки своим словам, не может устоять перед красотой. Что представляет собой Мария, и вообразить трудно, если несравнимая с нею Людмила...
“Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.
М у к о в н и н. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?
Д ы м ш и ц. Не скажу - нет.
К а т я. Вот это она и есть, Исаак Маркович,- русская красота”.
Занесся Дымшиц - и все лопнуло. Не без сжигающего мосты Висковского.
- Но где во всем этом страдание во зле?- спросите вы.- Заплетающиеся мысли Висковского, частица “-с” и все?
Это бутончики. Цветочки будут потом, а потом - ягодки.
Висковский помимо спекуляции и сутенерства (неудачных) накручивает себя и на грабеж.
“В и с к о в с к и й. Один удар, Яшка...
Я знал одной лишь силы власть,
Одну, но пламенную страсть...”
У Мцыри-то это был символ борьбы за свободу, волю, часть испытаний в результате побега из монастыря. А Висковский хочет приспособить - к своеволию. Не получится ли так, как и неудачное использование цитаты?..
“К р а в ч е н к о
. Сколько же тебе надо?В и с к о в с к и й. Десять тысяч фунтов. Один удар...
[Непомерные запросы и нереалистические методы. “Один удар”... Ему больше нужно себя унизить, чем десять тысяч фунтов заполучить. А для этого действительно одного деяния хватает. И для того - болтает, кому не попадя.]
...Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?
К р а в ч е н к о. И все на нитках?
В и с к о в с к и й. Нитки побоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут”.
Он даже артист, Висковский. Умеет вживаться в роль.
“К р а в ч е н к о. Да их небось уже нету.
В и с к о в с к и й. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять... У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге”.
Пограбить своего брата-аристократа - самая запредельность, какая и нужна агонизирующему Висковскому.
“К р а в ч е н к о. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович”.
Как в воду глядит. Как не получились из красных - купцы, так не способен толкающий себя в очередную пропасть Висковский - на что-то целесообразное: уехать из повергшей его в хаос страны, возродиться в Париже аристократом.
“В и с к о в с к и й. Выйдет!.. У меня отец торговал - выменивал усадьбы на жеребцов... Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает”.
А ведь Висковский своими экстремами ведет к тому принципу, что “гвардия умирает, но не сдается”.
Само переиначивание им крылатой фразы, сам пример с отцом - отрицательный - есть крик отчаяния. Или - иносказание крика: закусил губу до крови. Жить не гвардейцем, жить под Дымшицем, спекулянтом, сутенером или вольным грабителем своих - это не жизнь. Отрицание отрицания есть утверждение. Утверждение аристократизма.
Даже когда Висковский насилует (наверно насилует, раз та потом плачет) Людмилу, даже тогда он не похоть свою удовлетворяет, а за шкирку тащит себя в новое зло. Действительно: удовлетворился бы, так не тряслись бы у него после этого руки, а был бы расслабленный и довольный.
Или вот. Чтоб ту изнасиловать, нужно возбудиться. А как? Если он себя на зло тащит и все еще любит Марию?.. - Живописать словами, да перед людьми, перед самой Людмилой, эротическую сцену с Марией:
“В и с к о в с к и й ...(Поднимает бокал) "За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час..." Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась... Ее сестру зовут Мария... Представь себе, Яшка, что ты полюбил царицу. “Вы гадки,- говорит она тебе,- уходите...”
Л ю д м и л а (смеется). Узнаю Машу...
В и с к о в с к и й. “Вы гадки, уходите...” Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадтскую, шестнадцать, квартира четыре...
[Адрес Голицына.]
Л ю д м и л а. Висковский, не смейте!
В и с к о в с к и й. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Марья Николаевна вышла из дому в сером костюме tuilleur. Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь,- он играет на виолончели,- князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли...
[Мимоходом Висковский уничтожает как налет - аристократический блеск Голицына.]
Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сияла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... “Князь! Что же вы, князь?” Но голос у князя оказался как у папского певчего [кастрат?].
Passe, rien ne va plus.[Все в прошлом.]
Л ю д м и л а. Боже, какая злюка!
В и с к о в с к и й. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...
Людмила Николаевна опрокидывается, хохочет.
...Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем надеяться, голос погрубее...”
Определеннее всего издевался над собой Висковский, когда издевался над приспособленчеством своего гостя и собутыльника.
“В и с к о в с к и й. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.
К р а в ч е н к о. Евгений Александрович нынче в ударе.
В и с к о в с к и й. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился,- ты разрушишь ее, обстрелять детский приют,- ты скажешь: “Трубка два ноль восемь”- и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все пойдешь, и если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери,- ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка,- дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазками...”
Так нарывался на ссору и, может, на смерть, Висковский, пока не придумал чуть ли не в присутствии Кравченко и его подруги изнасиловать Людмилу.
И Кравченко, вполне по предвидению Висковского, в конце концов взбесился... и они оба получили свою смерть - не принявшие революцию:
“Кравченко молчит, прислушивается. Входит Висковский, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.
В и с к о в с к и й. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...
Д о р а. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...
К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.
В и с к о в с к и й. По разгонной, граждане?
К р а в ч е н к о. Погоди, Дора.
В и с к о в с к и й. По разгонной - за дам...
К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.
В и с к о в с к и й. За дам, Яков Иванович!
К р а в ч е н к о. Нехорошо, ротмистр.
В и с к о в с к и й. Что именно нехорошо?
К р а в ч е н к о. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.
В и с к о в с к и й (офицерским тоном). Как вы сказали?
Пауза. Плач смолкает.
К р а в ч е н к о. Я сказал - больные гонореей...
В и с к о в с к и й. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..
Кравченко вынимает револьвер.
...очень хорошо.
Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом - выстрелы, падение тел, женский крик
”.Висковский, повторяю, нашел искомое (это его “очень хорошо”). Эта жизнь была не для него. Значит, он - за другую жизнь. Идеал - высочайший, в сверхбудущем, а по дороге он шатнулся в субнизкое, как опору для отталкивания (другим!?) в сверхвысокое.
Сложно? - Сложно.
Так поступают иные из потерпевших поражение в социальной буре (неважно, с какой стороны баррикад они были: слева или справа). Так поступали в искусстве иные символисты в России после краха народничества, эсерского терроризма, всей революции 1905 года. Так поступал предтеча символистов, Бодлер, после краха общеевропейской революции 1848 года.
Их, на особый лад сверхисторических оптимистов (не путать с обычными сверхисторическими оптимистами), - как и положено, - не понимали исторические оптимисты “восходящего” разворота синусоиды идеалов: критические реалисты и неоромантики. И Номер Восьмой:
“Отталкивает она [“Мария”] прежде всего Бодлеровым пристрастием к испорченному мясу. В ней... люди протухли, скверно пахнут и почти все как бы заражены или порабощены воинствующей чувственностью.
Может быть, это - чувственность отчаяния людей, которые, погибая, стремятся оставить память о себе и как месть за себя пятна гнили на полу, на стенах”.
Ну а исторические оптимисты “нисходящего” поворота синусоиды идеалов - как водится - такие странные, бодлеровские, кульбиты (в сверхвысокое через субнизкое) понимали, но для себя - враги крайностей - не принимали. Враги крайностей противоположные крайности совмещают, совмещают несовместимое.
Бабель не зря вскрыл упомянутую сложность: не все в аристократии - по Бабелю - должно быть отвергнуто в гармоничном, коммунистическом будущем, историческом будущем, не завтрашнем.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... -
это было не для Бабеля.
Точно так же не для Бабеля было лишь
“затем” строить “новый мир”, на развалинах, ибо не возможно чудо:Кто был никем, тот станет всем.
Потому последняя, восьмая картина пьесы (когда с аристократами сюжетно покончено и действующие лица полностью заменены людьми
“нового мира”: Андреем и Кузьмой, чистящими паркет в квартире Муковниных, Нюшкой, моющей там окна, дворничихой Агашей, переселяющей туда из подвала семью рабочего),- последняя картина пьесы производит впечатление “пришей кобыле хвост”. Этим Бабелю замечательно удалось выразить идею пагубности противоестественного развития (синусоида идеалов естественно должна поворачивать “сверху” “вниз”, а не залетать все выше, как сталинскими верхами лживо утверждалось). Но околдованному Номер Восемь (я уточняю: Номер Восемь был околдован залетами вон “вверх” с синусоиды, а не необычными - вон “вверх через субниз”),- околдованному Номер Восемь бабелевская идея пагубности противоестественной революционности после победы революции была невдомек:“Последний акт весь прикреплен к пьесе механически - вот каково впечатление”.
Люди нового мира Номеру Восемь, естественно, “не кажутся удачными”, потому что Бабель с ними поступает так же,- в чем-то, как с аристократами (кроме отсутствующей Марии) - отрицает: у них дурные черты развились под влиянием победы революции.
Распоряжающиеся - злоупотребляют властью:
“А г а ш а....Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? когда они съезжают?
Г о л о с Т и х о н а. Съезжать, говорят, некуда.
А г а ш а. Жить умели - умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и скажи...”
Или:
“К а т я. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...
А г а ш а. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь”.
Исполняющие - лентяи и демагоги:
“А г а ш а (полотеру). Ну как, мастер, действуешь?
А н д р е й
. Прикладываем труды.А г а ш а. Не больно прикладываешь... Углы все пооставляли.
А н д р е й. Это какие углы?
А г а ш а. Да все четыре - и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.
А н д р е й. Материал теперь не тот, хозяйка.
А г а ш а. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.
А н д р е й. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...”
И те и другие - идеологически зашоренные:
“К у з ь м а. Генерал-то дрался небось?
А н д р е й. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь - он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.
К у з ь м а. Как это так - народ генерала любил?
А н д р е й. По дурости нашей - любили... Он вреда больше положенного не делал...”
Социальные прожектеры:
“А н д р е й ...Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?..”
Да и самое невинное в людях нового мира выглядит очень уж несграбно от сочетания с внешне аристократическим:
“Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входит солнце и шум улицы. Выставив живот...
[Вселённая Елена беременна, на последних днях - такова была воля Бабеля: зафиксировать состояние хоть временного, но уродства.]
...Выставив живот, женщина осторожно идет вдоль стен, трогает их, заглядывает в соседние комнаты, зажигает люстру, гасит ее. Входит Нюша, непомерная багровая девка...
[Опять Бабель в своем амплуа.]
...с ведром и тряпкой - мыть окна. Она становится на подоконник, затыкает подол выше колен, лучи солнца льются на нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба”.
А по пьесе - дом Муковниных находится на Миллионной против Эрмитажа с их, все знают, атлантами. Вот и сравните с атлантами нелепую Нюшку, молодую опору нового миропорядка.
И кончается пьеса на нелепости:
“Е л е н а. На новоселье придешь ко мне, Нюша?
Н ю ш а (басом). Позовешь - приду, а что поднесешь?
Е л е н а. Много не поднесу, что найдется...
Н ю ш а. Мне сладенького поднеси, красного... (Пронзительно и неожиданно она запевает.)
Скакал казак через долину,
Через Маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым.
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила - говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...
З а н а в е с
”* * *
В двухтомнике 1992 года издания (Москва, “Художественная литература”) иные картины пьесы обрамлены иллюстрациями художника Векслера, порой довольно точно передающими прочеховский, негативный, недостижимо-идеальный, можно сказать - апофатический (не то, не другое, не третье и т. д.) пафос “Марии”. Так, финал пьесы отмечен рисунком: окно с полукруглой, как во дворцах, рамой вверху - распахнуто, слегка отдувается занавеска, виден Эрмитаж, над ним как бы фальшивое солнце с лучами - переплет полукруглой рамы окна - и уродливое, отдающее чернотой ведро на подоконнике. Уродливое - потому что искорежена перспектива. Не вписывается ведро в аристократический интерьеро-пейзаж. Впрочем, ведро еще нарисовано едва ли не наиболее вертикально стоящим (меньше всего отклоняется от вертикали отдувающаяся занавеска). Весь остальной мир - как бы пошатнулся: Эрмитаж, окно квартиры Муковниных... И цветовые пятна не совпадают с контурами предметов. “Неисполнимые мечты и нестройные песни”... Автор, мечтающий о гармонии, не приемлет этой потуги на гармонию и, активно вмешиваясь, говорит свое “нет!”.
То же и перед восьмой картиной пьесы.
На фоне аристократического паркета жалкие пожитки переселенных: как бы падающая - такой крутой взят ракурс - грубая табуретка с досчатым сидением, крашенная в зеленый цвет; к ней привалился завязанный мешок; и как бы отваливается детская зыбка. На табуретке примус. Нарисован он не примитивно, но он сделан с таким безразличием к согласованию перспектив разных предметов (примуса и табуретки), что кажется падающим с табуретки, как и отваливающаяся от табуретки зыбка, хоть и зыбка и примус наиболее вертикальны. Пошатнувшиеся в разные стороны патрицианский и плебейский мир от сочетания друг с другом не уравновешиваются, а создают впечатление дисгармонии.
“Не приемлется” художником и уравновешенный в себе религиозный мир (заставка к картине седьмой). Он темен (черен цвет красного угла комнаты, его не в силах осветить свечи перед иконой), темна и сама икона Божьей Матери с младенцем. И весь этот мир художником наклонен вбок, влево. “Вертикали” свечей, боковых рам иконы параллельны друг другу, но они не вертикальны на рисунке. И не уравновешивает их симметрично отклоненное вправо пламя свечей. Наверно потому не уравновешивает, что колеблющаяся это стихия - пламя свечей. А некоторые из языков этого пламени очень уж велики и как бы охватывают икону, сжигают ее... Идеалу социальной гармонии не нужен гармоничный идеал, что не от мира сего...
Такие косые изображения к месту и не к месту Векслер нарисовал не только для “Марии”, но и ко многим другим вещам в двухтомнике. Там, где к месту,- можно его похвалить. А где нет? Раскоряки бессмысленные,- скажу.
Вот так и Номер Восемь. Много чего понимал. А что не понимал - ругал. Вот и “Марию” - счел неудачей.
Что такое неудача художника на синусоиде идеалов, что такое безобразие вместо красоты? Это точка, расположенная вообще вне плоскости рисунка с синусоидой. Чаще частого вон с этой плоскости искусства сгоняет творца безыдеальность (ни высокий идеал, ни низкий, ни средний - никакой не может он назвать своим). Вот и Бабеля,- по мнению Номера Восемь,- согнала: Бабель,- романтик по существу не решился, мол, таковым быть.
Что ж это как не безыдеальность?
А на самом деле - разве крик “недостижим у нас и сейчас гармонический идеал!” - не означает наличие все-таки этого идеала у кричащего? Означает. Если крик тот - результат конкретного, содержательного отрицания.
* * *
Довольно.
Я не наткнулся на тех из неголословных литературных критиков, с кем бы был согласен относительно Бабеля. Я, правда, не все прочел. Но и прочитанного хватит, чтоб предположить: адекватная оценка Бабеля все время была чревата неприятностями. Вольно или невольно критика на них не хотела нарываться.
Почему я скрыл имена тех, с чьей точкой зрения на Бабеля я столкнул свою? - Неудобно перед живыми людьми. Они ж не знали, говоря со мной, что я их выведу на печатные страницы проигравшими мне в споре. Тем более, что устно я не выглядел победительным.
Анонимность, заодно, позволила мне усилить их доводы, соединяя нескольких человек в одного оппонента Номер Такой-то.
Ну, а заявленная условность моих непосредственных собеседников повлекла безымянность остальных, хоть им (или за них, которых уже нет в живых) обижаться нечего: цитируя, я не изменил ни буквы, ни духа их писаний. Изменять мне было и не выгодно. Мне истина дорога. А она рождается (или утверждается) в споре с сильнейшим.
Одесса. Зима - весна 1995 г.
Содержание
Предисловие, постоянно-переходящее
к каждой книге данной серии.............................................3
Открытие Бабеля для себя и других невежд
..........................4Предисловие к самиздатским экземплярам 1995 г...........5
О рассказе “Король”....................................................9
О рассказе “Любка Казак”........................................13
О рассказе “Отец”.....
.................................................14О рассказе “Ди Грассо”..............................................19
О рассказе “Улица Данте”..........................................20
О рассказе “Ты проморгал, капитан!”........................26
О сборнике “Конармия”.............................................27
О рассказе “Смерть Долгушова”................................27
О рассказе “Мой первый гусь”....................................29
О рассказе “Письмо”.......................................
...........30О рассказе “Эскадронный Трунов”.............................30
О рассказе “Соль”......................................................35
О рассказе “Гюи де Мопассан”...................................39
О рассказе “Конец богадельни”..........
.......................46О рассказе “Нефть”....................................................51
О провидческом реализме...........................................55
О рассказе “Карл-Янкель”.........................................57
Испытание
столкновением (И кем только Бабеля ни считали, а он...)......................................................................61Вступление................................................................62
Столкновение с наивнореалиистическим восприятием..63
По рассказу “Как это делалось в Одессе”
.........................63Столкновение с акцентирующим контекст....................68
По рассказу “Как это делалось в Одессе”
.........................69Столкновение с мнением, что Бабель-художник есть еврейский экстремист.
...................................................69По рассказам: “Как это делалось в Одессе”
......................71“Король”...................................................
74“Фроим Грач”...........................................75
Столкновение с теми, кто счел Бабеля разным: то реалистом-объяснителем, то экзотизирующим все романтиком............................................................................84
Общие соображения.......................................................84
По рассказу “В подвале”...............................................
90Столкновение с видящим в писателе Бабеле умиротворяющего христианина.................................................94
По рассказу “Пан Аполек”............................................
...94Столкновение с романтизирующим Бабеля..................98
По пьесе “Мария”.........................................................
..99Столкновение с модернизирующим Бабеля.............111
По иллюстрациям Векслера......................................
.....111Заключение..............................................................113
ББК 83.3(4Укр – 4Оде – 2Од)63
В 68
УДК 821.161.2
’06(091)Воложин, Соломон Исаакович
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СМЫСЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАБЕЛЯ. - Одесса: Студия “Негоциант”, 2003. - 107 с. - (Закономерность искусства. Кн. 4)
ISBN 966-691-055-1
Автор довольно необычно вскрывает художественный смысл произведений Бабеля и сравнивает свой результат с выводами других критиков.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на специалистов
.
| В 4603020101 без объяв. | ББК 83.3(4Укр – 4Оде – 2Од)63 |
| 2003 | УДК821.161.2’06(091) |
| ISBN 966-691-055-1 | O Воложин С. И., 2003 |
| O Студия “Негоциант”, 2003 |
Соломон Исаакович Воложин
О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СМЫСЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАБЕЛЯ
Ответственный за выпуск
Штекель Л. И.
В книге использованы иллюстрации
художника Векслера
Н/К
формат 148х210
Бумага офсетная. Ризограф. Тираж 50 экз.
Издательский центр ООО “Студия “Негоциант”
270014, Украина, г. Одесса-14, а/я 90
Конец второй и последней интернет-части книги “О художественном смысле произведений Бабеля”
| К первой интернет- части книги |
На главную страницу сайта |
Откликнуться | Отклики в интернете |