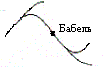
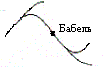
С. Воложин.
Бабель. Конармия.
Художественный смысл.
|
Социализм исправит страшных. |
Против Дмитрия Быкова 13.
Я поймал себя на том, что поступаю с Быковым так, как Владимир Соловьёв на передачах “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. Он прерывает либералов на каждой мысли, с которой он, Соловьёв, не согласен. И, пока не разгромит эту мысль, не позволяет оппоненту говорить дальше. – Когда я пишу статью на каждый ляп Быкова отдельно, я чем-то уподобляюсь Соловьёву.
Возьмём такую фразу:
"Мир “Конармии”… тошнотворно серьёзный. Единственная фигура в нём, которая как-то претендует, может быть, на какое-то добро и примирение, - это фигура самого Лютова. Но Лютов слишком конформист [приспособленец] для того, чтобы в этом мире что-то изменить. Он хочет быть как они, и в этом его беда. Поэтому сам он выживает, а душу свою теряет безнадёжно. “Конармия” – это история о том, как интеллигент потерял лицо, тщетно пытаясь избавиться от своего человеческого содержания” (Время потрясений. 1900-1950. М., 2018. С. 282).
Мне в чём-то труднее, чем Соловьёву. Он имеет дело с логикой, а я работаю против её. Я работаю с художественным смыслом, который не логически выводится. Логика, наоборот, на стороне Быкова. Художественный же смысл вдруг озаряет. И он не тот, о чём буквально написан текст.
Я умудрился очень долго не читать Бабеля. Я вообще малочитающий субъект. Я стал читать Бабеля на шестом десятке лет. Оказалась дома когда-то купленная женою книжка, содержащая “Одесские рассказы” и “Конармию”. Помню, как меня озарило о художественном смысле этих вещей. Если я не ошибаюсь в том издании “Одесские…” кончались рассказом “Карл-Янкель”. И именно его дочитывал я уже под светом фонаря вверху на берегу напротив пляжа “Дельфин” в Одессе. За спиной у меня был санаторий, забыл название. Сквозь него я всякими дворами и срезая углы приходил из дома на “Дельфин” после работы. Купался и читал. А когда темнело, поднимался к забору этого санатория. Перед забором был тротуар с фонарями и скамейками. У самой крайней стоял фонарь, и можно было очень комфортно сидеть там и читать хоть и ночью. – Кругом пусто. Тишину нарушают только сверчки. Рай такой земной… А читаю про ужас что.
И каждый раз тогда, когда случалось озарение о нецитируемом художественном смысле, я испытывал удивление и восторг. – Ведь о нецитируемом же! И оно всё-всё, любую мелочь в книге, предвидишь, объяснит. Надо просто идти домой, садиться за стол и начинать писать.
“Карл-Янкель” кончался необычно. Прорывалось у Бабеля “в лоб” выражение подсознательно идеала обоих циклов. Я взял те слова эпиграфом для своей книги о Бабеле:
"Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня.
- Не может быть,- шептал я себе,- чтобы ты не был счастливее меня...”.
Описывая наличный ужас, Бабель был вдохновлён благим историческим будущим. Социалистическим, как ему думалось.
Вообще-то, я, эстетический экстремист, считающий художественным только то, что странностями несёт следы подсознательного идеала, должен бы от художественности Бабеля отрешить, раз он впрямую этот идеал высказал. Но мне жалко сотен мест, где этого “в лоб” нету. И я себе разрешил думать, что для подсознательного идеала свойственно плавать то вон из сознания, в подсознание, то обратно, но больше – в подсознании идеал находится.
Последний рассказ “Конармии”, “Их было девять” (я на нём решил расправиться с Быковым), в поддавки не играл. Наоборот. Одного пленного поляка взводный, "из сормовских рабочих”, Голов застелил вне временной рамки рассказа. Это было “я”-повествователю (Лютову по другим рассказам) причиной жалобы начальнику штаба и составления им списка оставшихся девяти пленных. Уже в ходе рассказа Голов убил девятого ("Вымарай одного, давай записку на восемь штук...”). Лютов уверен, что и этих восемь убьют, и что он может только одно – описать всё как есть позже ("решил отслужить панихиду по убитым”). Но и это ему не удалось, рядом, где он уединился, двое, Черкашин и Митя, решили сжечь пчёл в улье, чтоб достать мёд.
"Головы их были замотаны шинелями. Щелки их глаз горели. Мириады пчел отбивали победителей и умирали у ульев. И я отложил перо. Я ужаснулся множеству панихид, предстоявших мне”.
Так кончается “Конармия”.
Людьми, какие были в наличии, делалась революция, велась и заканчивалась гражданская война. А они были то и дело мародёры и убийцы пленных. И мало что можно было с ними поделать. Их душила классовая ненависть. И она простительна по большому счёту. Ради будущего, в котором люди изменятся.
Можно увидеть в тексте рассказа наводку на такой вывод из чтения?
По-моему, можно.
Введена целая шкала всё менее плохих конармейцев. Самый плохой Андрюшка Бурак. Ему и сто пленных убить – пустяк. Он мародёр матёрый. Может и командира убить, если слишком перечить будет. По факту лишь чуть лучше взводный Голов. Двух пленных убил. Следующий Черкашин, он штабной холуй и всего лишь на пчёл ополчился. И самый мало виноватый, явно совращённый на поход против пчёл Митя, наверно, юнец ещё.
Так – по фактам преступлений. А с принципом “смотря какой человек”?
Голов, во-первых, колеблющийся.
Чей был польский мундир с короткими для Голова рукавами, - мундир, к которому он примеривался, если убил он "длинного поляка”? В счёт упомянутых Андрюшкой десяти пленных не входит умирающий, с которого Андрюшка снял штаны? Может, умирающий был низкий, тогда и мундир – его? – Нет. Мундир – егеря, девятого, у которого Голов "Тогда [после выбраковки мундира] Голов прощупал пальцами егеревские кальсоны пленного”. То есть сейчас Голов готов помародёрничать. Но когда Андрюшка "осторожно снял у него с руки мундир” и стал отъезжать, Голов опомнился: "Измена”. И даже шатнуло его в самосуд – выстрелил в Андрюшку. Тот вернулся и пригрозил его убить и внушил убить этих девять. И… Голов поддался внушению или что, но девятого убил.
А во-вторых, Голов в ужасном состоянии.
"Он взялся рукой за лоб. Кровь лилась с него как дождь со скирды. Он лег на живот, пополз к ручью и надолго всунул в пересыхающую воду разбитую свою окровавленную голову...”.
Он вменяемый вообще?
Лютов как бы не замечает, скорбит о поляках (Голов всё-таки живой).
Но замечает Бабель.
А написано всё вскоре после окончания в общем победной гражданской войны, хоть именно польская кампания была проиграна с треском.
Читатель это знает.
Так что это даёт странному, но объяснимому колебанию сормовского рабочего, если он выжил в той войне?
Почему поведение Голова объяснимо по умолчанию?
Не в расчёте ли на всё понимающего читателя?
Каковым Быков не оказался.
.
Но Быков не только по большому, литературоведческому счёту ошибается. Или это я так вляпаюсь сейчас, но он и чисто по-хлестаковски привирает, от увлечения темой:
"…был один человек, который наехал на него, принялся его топтать с абсолютно копытной убеждённостью. Это Будённый, тот самый, который выведен у него вроде бы легендарным, безмерно положительным, безмерно чтимым героем” (С. 282).
Я просто изумлён: зачем было человеку просто врать? Я решил, что незачем и, может, меня подводит память, что нет нигде в “Конармии” никого, чьим прототипом был бы Будённый. Пролистал “Конармию” - ну нету и всё*.
*
- Будённый всё же появляется в рассказе "Комбриг 2" .- Надо же! Плохо я смотрел. Вот о Будённом:
"Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова…
.
…— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?
— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.
— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.
— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.
— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.
Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу…
.
— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.
— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.
"Ура" смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.
— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.
И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним”.
Всё.
Я понимаю, почему я не запомнил так выведенного Будённого. – Потому что он ничем не отличается от ужасных конармейцев, которым История на минуту улыбнулась. (Минута – это с моей точки зрения, пережившего крах СССР через 70 лет после времени действия в повествовании и через 5 лет после времени самого повествования. Последние два времени были близки друг к другу. Потому Бабелю было простительно ошибиться насчёт благой Истории и во всю расписать ужасность.) В чём ужасность Будённого? В жестокости. Он по своей ограниченности не мог знать, что в этой войне решается судьба, если и не буквальной Мировой революции, то Всеевропейской. А Бабель во время повествования об этом уже знал. Но он жестокость Будённого с историческим моментом не связал (что Будённого б оправдало). Он его сделал расчётливо жестоким: Колесников ищет чести → расстрел за бегство бригады оскорбит его честь посмертно → гарантировать ему смерть за бегство → любящему честь такое обещание особенно доходчиво. Потому Будённому и вменено автором вести себя расчетливо жестоко по личной инициативе. При этом стирается известное – что это было в ту войну общепринятое правило, а не жестокость лично Будённого. Нет. Бабелю – сохранения стиля ради – понадобилось выставить Будённого личным творцом жестокого условия. Не отличающимся от жестоких конармейцев.
Почему я и не запомнил Будённого.
Что вины с меня не снимает.
Но и Быков виноват: врёт же, что выведен "легендарным, безмерно положительным, безмерно чтимым героем”.
27.04.2021.
И ещё.
"Не знаю, насколько справедливы бабелевские рассказы о его встречах со Сталиным на даче Горького, но Эренбург вспоминает, что Бабель вернулся мрачный и сказал: “Плохо дело, друг мой. Я не понравился”” (284).
Ну нет этого в интернете**.
**
- Что-то в сети таки есть: Бенедикт САРНОВ, Сталин и Бабель, Опубликовано в журнале Октябрь, номер 9, 2010.- Смотрим:
"Эту историю – тогда же, по горячим следам события – будто бы рассказал одному моему [Сарнова, и будь это Эренбург, чего б Саронову таить…] знакомому сам Бабель. А закончил он этот свой рассказ так:
– Что вам сказать, мой дорогой? Я ему не понравился” (https://magazines.gorky.media/october/2010/9/stalin-i-babel.html).
Не дословно те слова плюс ниже там рассказано, что это выдумка Бабеля, никогда со Сталиным не встречавшегося.
То есть Быков не озаботился точным цитированием, как минимум.
Я, может, смешон апеллируя к интернету. Но всё-таки… Моё чутьё говорит, что было б это в интернете, если б было, кроме как у Быкова, ещё где-то напечатано.
Быков ещё и врунишка по мелочи.
14 апреля 2021 г.
Натанияч. Израиль.
Впервые опубликовано по адресу
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |