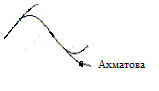
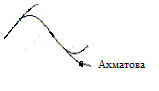
С. Воложин
Ахматова. Художественный смысл
ранних стихотворений
| Художественный смысл (осознанный нами катарсис от столкновения в нас противочувствий из-за про-тиворечий текста) у ранней Ахматовой есть ниц-шеанская вседозволенность. |
Воложин, Семен Исаакович
С ВЫГОТСКИМ ПРОТИВ КОРЖАВИНА
Наум Коржавин определил акмеизм как литературное ницшеанство [2, с. 241], а раннюю Анну Ахматову - в ее лучших стихотворениях - как поэтессу, вырывающуюся из акмеизма, этой капитуляции в духе времени [2, с. 248].
Так если лучшими считать те, что удовлетворяют психологическому критерию художественности по Выготскому, т. е. сталкивающие противоречивые элементы своей структуры и тем дразнящие читателя противочувствиями [1, с. 139], то осознавание катарсиса от этого столкновения (а иными словами - открытие их художественного смысла) вывод Коржавина не подтверждают и оставляют эти стихи в рамках все-таки акмеизма с его идеалом вседозволенности [2, с. 241].
Например, такое:
ВЕЧЕРОМ
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюдце устрицы во льду.
Он мне сказал: “Я верный друг!”
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
Так гладят кошек или птиц,
Так на наездниц смотрят стройных...
Лишь смех в глазах его спокойных
Под легким золотом ресниц.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
“Благослови же небеса -
Ты первый раз одна с любимым”.
Казалось бы, что за пошлость перед нами: поддается женщина похотливому желанию мужчины, при этом ломается сама перед собой, мол, она поддается, потому что любит его. Банально?
Однако, в том-то и дело, что нет. Героиня так остро осознает неестественность положения (как положение устриц - во льду, как запах моря - в тысячах километров от него), она так сливается со скорбью и невыразимым горем скрипок... Ее любовь насколько трезва, настолько и бессильна перед своим любимым. Из этого противочувствия - как из кремня об кресало выскакивает искра - рождается возвышение чувств: такой любви - все можно.
Что мы получили? Знакомую ницшеанскую вседозволенность, по Коржавину, достигнутую форсированной утонченностью и невероятной поэтичностью. Коржавин же писал: <<Это значило... выгрываться в разыгранные роли, а потом писать от их имени, веря, что от своего>> [2, с. 241].
И если взглянуть в таком свете, то вопрос: насколько неправ был Жданов в 1948 году, назвавший Ахматову блудницей, когда она в 1913 году выгрывалась-таки в эту роль и писала от ее имени, как от своего: “Все мы бражники здесь, блудницы...”? - Если Жданов относил эти слова к персоне Анне Горенко, то он был, определенно, не прав. Но если б понять его, как Коржавин понимал акмеизм, то прав: акмеистские стихи Ахматовой восходят к философии Ницше, высокой нравственностью относительно так называемых общечеловеческих ценностей не отличавшейся. О последнем, впрочем, сегодня немодно и непрестижно заявлять, но будем мужественны.
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
После разоблачения культа личности Сталина советская критика раннюю лирику Ахматовой так пытались приспособить к совковой идеологии: мол, образ больной любви у ранней Ахматовой был образом больного старого мира. И яркой иллюстрацией к этой мысли было только что приведенное стихотворение.
Действительно похоже. Пир... Чума...
Только тоньше - как в стихотворении “Вечером”. Та же ситуация. Такой же мужчина, любящий героиню, как любит хозяев предательница-кошка, гуляющая сама по себе. И мужчину этого героиня подлавливает лишь на похоть - своей узкой юбкой. И та же она, осознающая всю неестественность своего положения якобы любимой, как неестественны на стенах ресторана цветы, птицы и облака, как неестественен сам ресторан с навсегда забитыми окнами - не увидишь через них, что за погода-природа за окнами. И так же героиней все это настолько остро переживается, что по сравнению с какой-то другой, той, “что сейчас танцует” и,- раз больше ничего о той не известно, - то по сравнению с той, что в гармонии с пошлой действительностью, героиня - достойна участи противоположной: та - “непременно будет в аду”, значит, эта, героиня, - в раю.
Здесь ад и рай - в переносном смысле. Перед раем в прямом смысле слова героиня такая же бражница и блудница, как и все здесь, в описываемом ресторане: она, героиня, живет не во имя Бога и не во имя Его завета “плодитесь и размножайтесь” - она живет во имя любви, страсти. Она живет во имя любви и страсти даже не к любящему ее всей душой мужчине. Рай в духе этого стихотворения - это награда за святую силу страсти саму по себе, какой, видно, нет у той, другой, потому пошлой и заслуживающей наказания, то бишь ада.
Итак, опять: от столкновения в героине силы неприятия зла со все-таки бессилием перед ним воспевается сверхчеловек, исключительный по силе эмоций.
Или вот - очень характерное в этом же плане стихотворение, хотя на первый взгляд - прямо противоположная тут ситуация: героиня приспособилась к необходимости внешних приличий.
СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
“Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой”.
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
“Нет на земле твоего короля...”
Каков потрясающий оксюморон уже в начале: “Слава тебе, безысходная боль!”
У кого она более безысходна - боль: у королевы, аж поседевшей враз, или у героини, у которой и лицо не дрогнуло?
Королева, ставшая за ночь седой от горя, достойна большого уважения за, так сказать, несдержанность ее природы. Но та была законной женой. Несдержанности ее горя потрафляло общественное мнение, пошлое общественное мнение благополучного общества. И королеве легче. И тем она более виновна перед памятью об умершем.
А героиня, чья дочка с серыми глазками явно от сероглазого короля, в ином положении: ей нужно таить свое горе от всех и от домашних и мужа - в первую очередь (еще неизвестно, не наигранное ли спокойствие ее мужа и что за ночная работа во времена королей: не сторожить ли с оружием в руках и не против короля ли это оружие вчера было пущено - есть за что...). В общем, ей - раскрыться нельзя.
И она находит выход.
Она должна немедленно (хоть малютка только заснула - вечер ал), сейчас же, смерти вопреки, увидеть живыми эти любимые серые глаза. И это жалкий выход! И она это осознает. - Так тем более безысходна ее боль. Даешь максимум! Даешь экстрему!
Столкновение приятия... неприемлемого дает нам, обычным людям, почувствовать, что такое демонизм.
Или вот:
Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.
У грядок груды овощей
Лежат, пестры, на черноземе.
Еще струится холодок,
Но с парников снята рогожа.
Там есть прудок, такой прудок,
Где тина на парчу похожа.
А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живет большой карась
И с ним большая карасиха.
Вот уж, казалось бы, - низкий достижимый и достигнутый идеал, как идеал так называемых старых мастеров: вспомните натюрморты голландской живописи XVII века: “...груды овощей / Лежат пестры...”
Это - уставшая от городской ресторанной жизни женщина, вырвавшаяся из своего круга, в который входили не только акмеисты, но и футуристы, и декаденты. Как ни особняком акмеисты держались в кафе “Бродячая собака”, но они ходили именно туда, куда приходили и их антиподы. И насколько ненавидела героиня Ахматовой неестественность той обстановки: нарисованные на стенах цветы, птицы, облака, забитые окошки, сигаретный дым,- настолько нравиться ей должны цветы живые, пахнущие, естественная природа: пруд, ряска и даже искусственная, но тоже по-своему естественная - трудовая обстановка: рогожа, парники, грядки.
Все - так. И все-таки...
Еще лучше - мальчику? Он живет в сказочном таинственном мире. Его чувства напряжены настолько, что даже вдали от пруда он боится, открывая героине тайну этого пруда: там живет карась и с ним большая карасиха.
Героиня мгновенно вживается в чувства мальчика и чтит их. За то, что они из ряда вон выходящие.
Но это ж прямо противоположные ценности, как натурализм и символизм, как бытовая достижимость и мистическая недостижимость. Столкновение.
И от него - катарсис: ни то (мило-мелкое) ни другое (инфантильно-грандиозное), а - третье (трезвое и сверхчеловеческое).
Опять - исключительность, а значит - акмеизм.
Или еще:
...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.
Что это? - Ну пусть нечто чуткое и сдержанное, раз “внимает шорохам” и терпит - лицо окунуто в воду. Так что?
Напряжение, правда, от такого противоречия большое (если вдуматься). Действительно: рана и чтоб без стона, без звука. Как статуя.
В этом, что ли, двойник поэту - статуя?
А может-таки, в этом.
“Все в мире - контрапункт, противоречие”,- сказал один великий. И в мастерстве артиста - тоже контрапункт.
Вот, скажем, Станиславский свою технику исполнительского искусства не изобрел, а открыл. Это ж естественно: чем больше сдерживаться, тем сильней взрыв, когда нет сил сдержаться. В том же - в двух словах - суть системы Станиславского. Не надо себя насиловать и натужно выворачивать из себя внешние проявления чувства. Надо наоборот. Сдерживать эти внешние проявления - как наша раненая поверженная статуя. Внутренне же - внимать шорохам - накачивать себя деталями вживания в положение. И тогда чувства взорвутся и проявятся внешне. И вот это будет - игра. Тут-то притворяться - не потребуется, знай только давай себе волю.
А это ли не идеал акмеизма?
Вот что такое столкнуть чуткость со сдержанностью.
Кажется притянутым?
А ведь, если вдуматься, Ахматовой нужно было, чтоб возникло такое подозрение, коль скоро толкование произнесено. И Ахматовой нужно было, чтоб толкование хотя бы не было очевидным. Ей необходимо было затруднить понимание своих вещей. Потому что суть акмеизма глубоко индивидуалистическая, можно сказать - сверхиндивидуалистическая.
Массовому искусству типа сериала “Богатые тоже плачут” нужно, чтоб зритель чувствовал себя догадливее и героев и автора: он, зритель, мгновенно ориентируется в обстановке, а герой все еще не догадывается, и сам автор настолько откровенно затягивает реакцию героя, что рискует нарваться на нетерпение - выключение телевизора. Но автор все-таки не доводит до ссоры со зрителем, массовым, по крайней мере. И - зритель снисходит до автора. Зато автор получает для своего произведения сотни миллионов зрителей.
А акмеист дает вершину, с крутейшими откосами. Хочешь - взбирайся. Сможешь - взберешься. А помогать? Это не в его духе и не в духе тех, кто берется взбираться.
Мало таких? Тем лучше. Сверхчеловеков и должно быть мало.
Вот, думаю, откуда произошел и такой ахматовский прием, как предъявление только пятого акта драмы.
Литература
1. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1987.
2. Коржавин Н. Анна Ахматова и “серебряный век” // Новый мир. - 1989.- №7.
| На главную страницу сайта |
Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |